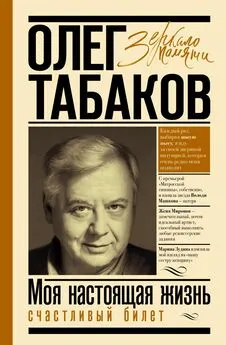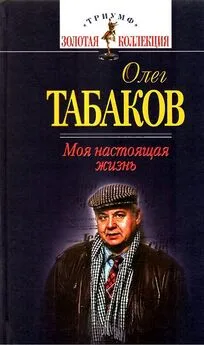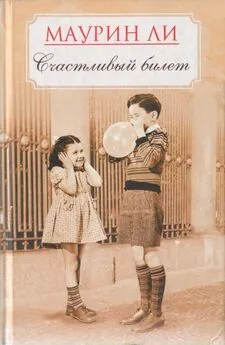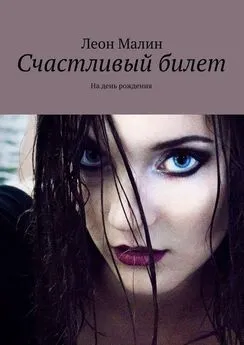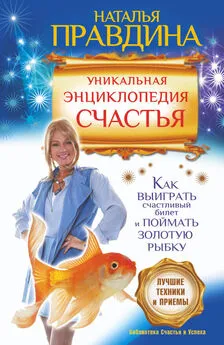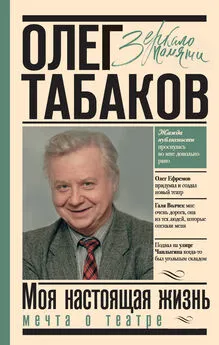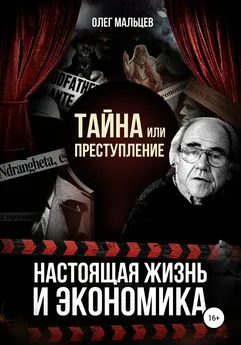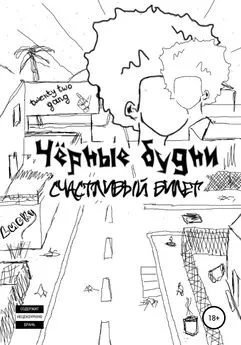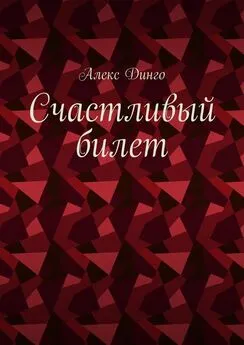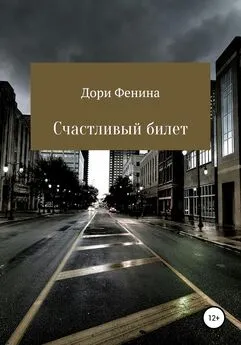Олег Табаков - Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2
- Название:Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- ISBN:978-5-17-132921-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Табаков - Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2 краткое содержание
«Счастливый билет» – это рассказ о постановках легендарной «Табакерки», о новой жизни МХТ им. А.П. Чехова, о творческом становлении известных сегодня актеров – В. Машкова, Е. Миронова, С. Безрукова, А. Смолякова, о сотрудничестве с лучшими режиссерами, и еще много о чем.
Искренне делится Олег Павлович и своими горестями и радостями художественного руководителя одновременно двух театров, за спектаклями и гастролями которых читатель с восхищением следит на страницах книги и не перестает удивляться: как один человек успевал играть, преподавать, ставить и управлять. А еще любить – коллег, друзей, и свою дружную семью, которую ему подарила удивительная женщина, красивая и талантливая актриса Марина Зудина.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Функции власти поменялись. Общественные партийные и профсоюзные советы также попали под сокращение (во всяком случае, в МХТ, когда мне пришлось встать во главе театра). С того момента мне самому нужно было решать этот самый вопрос: достоин тот или иной спектакль сценической жизни или не достоин? Не с точки зрения советской власти, а просто по совести. Не чьей-то вообще, а вот лично моей совести – актера, который за полвека много чего повидал и научился отличать живое от подделки. Я слышал, как говорили: «Табаков закрыл в МХТ больше спектаклей, чем вся советская власть за семьдесят лет». Не считал и знаю только одно: закрывал я эти спектакли по одной-единственной причине – из уважения к зрителям. Смотришь иногда какое-нибудь занудство или разухабистую ерунду и думаешь: «Это ж нельзя продавать за деньги!» Если спектакль Художественного театра не обеспечен актерскими работами, хотя бы одной, его выпускать нельзя. Потому и не увидел зритель работ многих моих друзей и товарищей по цеху. Обиделись ли они? Наверное. Но с большинством из них я сохранил человеческие отношения. Ведь каждый в этой ситуации понимал, что я защищаю не власть, а доброе имя Художественного театра. И потом, я исходил из того, что если спектакль не получился на этот раз, то получится в другой. Важно задать планку художественным отношениям. И не раз получалось, что тот или иной режиссер-неудачник возвращался и делал новый, весьма успешный спектакль на одной из трех сцен МХТ.
Так я осваивал искусство руководства театром в постсоветских условиях. Полагаясь исключительно на свои силы, как учил нас товарищ Ким Ир Сен, руководствуясь идеями чучхе.
Закрытие новых спектаклей всегда происходит по разным причинам.
Мне представляется весьма жизнеспособной идея постепенного возрождения великих спектаклей, составлявших когда-то славу и гордость Художественного театра. На сегодняшний день в МХТ с успехом реализована постановка нескольких пьес из старого мхатовского репертуара, имеются подобные планы и на ближайшее будущее. Однако первой из закрытых мною работ оказался именно такой «возрождаемый» спектакль – «Горячее сердце» по пьесе Александра Николаевича Островского. Талантливый режиссер Евгений Каменькович, сильный актерский состав, интересный замысел пространственно-декорационного решения, но… В работе над живым и развивающимся спектаклем обязательно случается так, что кто-то один вдруг прорывается вперед, и тогда в «пролом» за ним устремляются все остальные. Увы, в «Горячем сердце» не оказалось ни одного такого прорыва и ни одного «пролома», куда можно было бы устремляться. Никакие попытки изменить спектакль к лучшему, внести в его ткань живые ноты не помогали, и мне пришлось его закрыть.
История так и не вышедших на зрителя спектаклей «Я пришел» и «Свадьба Кречинского» довольно поучительна. Началась она с того, что в 2004 году я прочитал пьесу современного белорусского драматурга Николая Халезина «Я пришел», показавшуюся мне весьма интересной для постановки именно в Художественном театре, которому всегда, начиная со времен его основания, было свойственно тяготение к современной драматургии. Незадолго до этого я увидел в Малом театре понравившуюся мне работу режиссера из Новосибирска Сергея Афанасьева, которого я и позвал ставить спектакль. Собралась очень удачная актерская команда, на главную роль был приглашен Леонид Ярмольник, начались репетиции. Однако через некоторое время течение жизни привело работающих над спектаклем к необходимости делать… совершенно другой спектакль. С чем они ко мне и обратились. Поскольку оба были людьми славными и симпатичными, я ответил: «Ну, ладно, давайте продолжайте работу, потому что вам это интересно, потому что вы испытываете взаимный интерес друг к другу – и режиссер к актерам, и актеры к режиссеру». Так работа над современной пьесой плавно переросла в работу над пьесой Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». По прошествии четырех месяцев я три или четыре раза посмотрел практически готовый спектакль. Уже были сшиты костюмы, а для Большой сцены созданы декорации по эскизам Александра Боровского, точно воспроизводящие интерьер портретного фойе Художественного театра. Все это потребовало немалых финансовых вложений, и тем не менее спектакль пришлось закрыть. С одной стороны, потому, что работа эта к тому времени уже никому из участников не приносила никакой радости, а с другой – я не видел в ней реальной перспективы. Это была настоящая дорога в никуда.
Точно так же, несмотря на значительные затраты на сценическую реализацию, мною был изъят из репертуара спектакль по пьесе Альдо Николаи «Гамлет в остром соусе», не проживший и года.
С закрытием спектакля «Европа-Азия» получилась длинная-длинная история с заменой исполнителей, пробами каких-то совсем новых людей, но кого бы ни пробовали, результат… Как говорится в одной известной шутке, «у нас сколько ни совершенствуй механизм, в итоге все равно получается автомат Калашникова…» Но применение автомата Калашникова, например, в пищевой промышленности или в стоматологии может кончиться для человека очень болезненно. И я решил не рисковать.
Грустным было закрытие спектакля «Перезагрузка». Люди, собравшиеся работать над этим спектаклем, видимо, с самого начала должны были отказаться от этого – слишком уж очевидной была разность их «групп крови». К сожалению, в театре мало бывает людей, способных сказать «не могу» или «делайте со мной что хотите, но я этого делать не стану». Вполне решаемые драматургические задачи отзвука в сердцах так и не нашли.
Хотя закрытых спектаклей было немало, никакие из них мне не хочется вспоминать. И ничто не вызывает ощущения потери. А раз так, значит, все это было сделано разумно. Безо всякой драмы, безо всякой, как говорится, неврастении и проявлений Зевса-громовержца. Прокат в репертуаре посредственного спектакля наносит репутации театра огромный вред. А когда еще рядом с посредственными спектаклями в репертуаре существуют спектакли хорошие, настоящие, то и амплитуда колебания зрительского мнения о театре получается очень большой. Логика у людей такая: «Зачем же они нам это показывают, мы же знаем, что они могут делать все совсем по-другому…» В театре такие номера не проходят бесследно.
Больше не академический
Здесь я хочу сделать небольшое, но необходимое отступление.
В 2004 году я убрал из названия Художественного театра слово «академический». Объяснение тому очень простое. Применительно к театру это звучало либо бессмысленно, либо развращающе-разлагающе. Слово «академический» было придано Художественному театру советской властью после национализации. Словечко прикрывало суть нового положения Художественного театра, ставшего зависимым от власти и новой идеологии. Десятилетиями власть насаждала внутри Художественного театра ощущение исключительности, особых доверительных отношений с властью. Власть развращала некоторых актеров Художественного театра своей особой лаской. И все лакировалось вывеской академического театра.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: