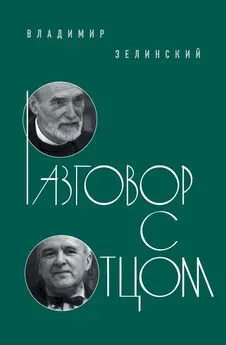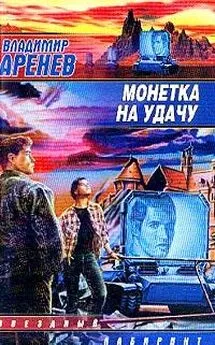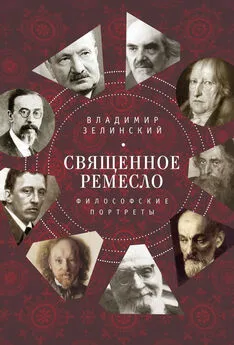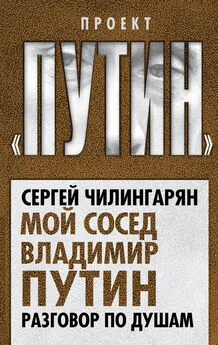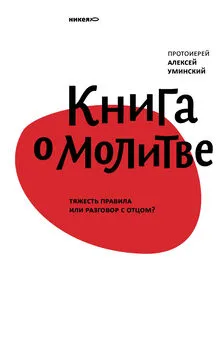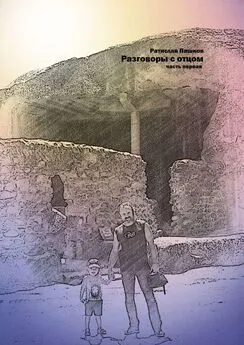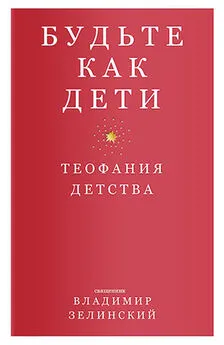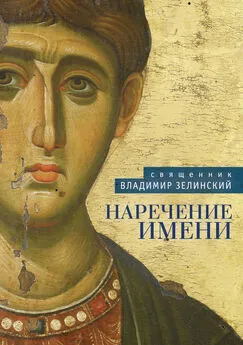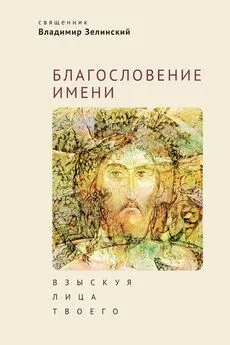Владимир Зелинский - Разговор с отцом
- Название:Разговор с отцом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814970
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зелинский - Разговор с отцом краткое содержание
Разговор с отцом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«И это я-то формалист? О, сволочь З-ий» 96 96 Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994–1995. Т. 4.
.
Тяжело такое нести. Лермонтов наверняка погиб бы на других дуэлях или на чеченской войне, но все же на курок нажала именно рука Мартынова. Было ли у него потомство? Мучился ли сын летчика, сбившего самолет Сент-Экзюпери? Знала ли дочь писателя Ставского, что в памяти русской литературы ее отец сохранится лишь как автор доноса на Мандельштама? Да, Мандельштам был и так и так обречен, сам Ставский погибнет потом на войне, но донос Ежову (единственный ли?) перевешивает прочее. Память сосредотачивается на одном, отметая другое.
Что я могу теперь поделать – сын и поп? Читатель Цветаевой?
Наследуются не только гены, но и поступки. Не только наследуются, но и требуют искупления, взывают к покаянию, приносятся милосердию Божию. В нем они не то чтобы снимаются, но меняют цвет. «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю» (1,18) – сказано у пророка Исаи. Молиться об упокоении души чада Божия Марины постепенно стало моей ежедневной потребностью. И литургически молюсь много лет. Во всех проскомидиях, на всех панихидах. В моем помяннике есть список русских поэтов, с которыми срослась моя жизнь. Сначала Марина, затем два Александра, Михаил, Осип, два Бориса. Но о Марине – с болью особой. Список невелик, пока 18 имен, надо бы увеличить.
Православная Церковь не поминает самоубийц. Правда, в отношении Марины Цветаевой патриарх Алексий II сделал исключение. На вопрос, по какому праву, ответил: «Всенародное почитание». Мое почитание не всенародное, почти, можно сказать, тайное. Я поминал ее задолго до того, как узнал о разрешении покойного патриарха на ее церковное поминание. Поминаю и отца, разумеется, – он был безбожник, но крещеный.
С годами все больше чувствую, как она (здесь уместно «она») стучится в мою память и совесть.
Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина,
Поешь, Марина, мне,
крылом грозишь, Марина…
ПАРАДОКС О КРИТИКЕ. 1950–1960- е ГОДЫ
В 1959 году после долгого перерыва у отца вышла первая авторская книга На рубеже двух эпох в жанре литературоведческих мемуаров. На развороте подаренного мне экземпляра наклеена фотография, запечатлевшая нас, сидящих на лавке у дачи, с надписью «Моему дорогому сыну Володе с надеждой, что ты продолжишь мой путь в литературе, и с любовью. Автор. 27 сентября 1959 года». В эти дни мне исполнилось 17 лет.
Эта галерея литературных портретов, воспоминаний о друзьях – спутниках его молодости, гимнопевцах эпохи, которая несла великие надежды. Надежды уже стали памятниками истории; но: «не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» (Жуковский). Эта интонация благодарности и прощания явно слышится в отцовских мемуарах. Благодарности революции как последнему убежищу идентичности советского человека. Туда, в манящие дали прошлого, стали в то время бежать от настоящего, которое по расписанию уже должно было переходить в будущее, а оно все не переходило. И, чем дольше длилось это ненаступавшее будущее, тем больше нагнетался веселящий газ октябрьского тумана, тем многочисленнее становилась когорта собирателей его в стихи и прозу, разливателей его по сосудам культуры, наполнителей им душ и умов. Он не был уж столь веселящим во времена молодости отца, но стал таким к концу 50-х годов. Для меня эта книга На рубеже двух эпох выглядит как бы гаванью, где отец хотел бы пришвартовать свой видавший виды корабль. Или музеем его молодых лет. Не могу сказать, что визит туда не доставляет литературного удовольствия. Читаю На рубеже , и мне кажется, что я исполняю отцовское пожелание продолжить его путь в литературе, хотя, возможно, и совсем не так, как ему хотелось бы. Подводя итог тому, что им было сделано, стараясь не вызывать его на суд. Может быть, и плохо получается, согласен. Но как оторвать время от человека, а писателя – от его книг?
Литературные встречи 1917–1920 годов. Блок, Брюсов, Есенин, Маяковский, поэты пролеткульта, иронический портрет Андрея Белого, сочувственный, но слегка насмешливый – Хлебникова. Их всех, кроме разве Хлебникова, отец знал лично. (В последний год жизни отца я пытался объяснить ему, что если существует в поэзии пример «чистой», то есть не разбавленной культурной средой, традицией, цензурой разума, – то это именно Хлебников. Отец почти соглашался.) Вижу почтительные портреты Гастева, Кириллова, Герасимова, Александровского, Полетаева, Казина, Демьяна – полуграфоманов от революционного ликования, будем называть вещи своими именами. Литература тогда, по выражению отца, повернула от мировой скорби к мировому восторгу. Нигде не поминаются даты и причины смерти многих из героев книги; даже осторожный термин «незаконные репрессии» еще не вошел в обиход. Ни слова о самоубийствах, о блоковском отсутствии воздуха. Но:
«Я утверждаю, – пишет отец, — со всем внутренним чувством убежденности, добытой преодолением своих заблуждений, что Октябрь и Ленин спасли русскую литературу, освободив всех нас, и старшее, и более позднее поколение интеллигенции, от тяжелых „накладных расходов на пути к истине, неизбежных в капиталистическом обществе“» 97 97 Зелинский К . На рубеже двух эпох. М, 1959.
.
Я же чувствую здесь интонацию надлома, даже заклинания. Режим стал сохнуть, терять соки, будущее меркнуть, и тогда настало время спасения святынь. Та мечта, которой принесли себя в дар Маяковский и целое поколение одаренных и не очень одаренных поэтов, стала давящим комом истории, который будут нехотя еще пережевывать в школе. Мечта о прошлом, сливающемся с будущим, сделалась той самой материей, из которой изготавливалось новое платье короля. Увы, других мест работы, кроме как на фабрике изготовления этих платьев, для критика не было.
Про него говорят: Корнелий Зелинский не только официальный, но и, можно сказать, официозный критик 98 98 Дмитрий Гасин.
. Так ли? Официозным считался и на самом деле был В. Ермилов, и вслед за ним можно насчитать столько других. Читаю, критически и со вниманием перечитываю отцовские тексты, многие впервые, и вижу, что отец, когда мог, как раз стремился, не знаю, сознательно или нет, избежать этой роли. Он хотел скорее быть раскованным свидетелем времени, почти Монтенем, которого так любил перечитывать, рассуждающим о делах мира со своей башни. Или Сомерсетом Моэмом, неторопливо подводящим итоги насыщенной жизни. Или Норбертом Винером, внедряющим кибернетику в науку о литературе. Об этом говорят его поздние большие статьи Парадокс о критике, Литература и человек будущего, Камо грядеши? О назначении поэзии, О Кибернетике (с точки зрения литературоведа) . Критик здесь хочет как раз уйти от критики, он хочет быть вольным мыслителем, перерабатывающим время в себе, пользуясь теми знаниями и возможностями, которые были в его распоряжении, при этом постоянно себе напоминая, что его башня и кибернетика стоят на советской земле. Его мысль, вполне живая, все же относительно раскованная, не могла не нести на себе следов господствующего идеологического дискурса: он был с ним почти на равных в 1920-х годах, он добровольно сдался ему в 1930-х, а в 1950–1960-х он стал как бы необходимой рамкой для всякого литературного или философского словесного акта. Что эта рамка когда-нибудь развалится под напором следующего поколения освободившегося слова, отец, конечно, не знал. Да и никто не знал и предвидеть не мог; миф не предусматривал своей кончины. Но, может быть, догадывался.
Интервал:
Закладка: