Алесь Адамович - Врата сокровищницы своей отворяю...
- Название:Врата сокровищницы своей отворяю...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1982
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алесь Адамович - Врата сокровищницы своей отворяю... краткое содержание
Врата сокровищницы своей отворяю... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне кажется, что влияние Гоголя заметно ощущается в некоторых произведениях Максима: «В бане», «Страшная песня», «Деготь», «Шутник Писаревич».
Толстого уважал Максим за «Войну и мир», за глубокое понимание людей разных социальных сословий, за социальный протест. Достоевский импонировал Максиму проникновением в потемки души, пониманием тайн человеческой психологии.
Бунин восхищал Максима красотой русского языка, Максим Горький в глазах Максима был крестным отцом молодой белорусской литературы.
Шевченко и Коцюбинский, Мицкевич и Ожешко являлись для Максима лучшими представителями украинской и польской литературы; он читал их в оригиналах; они были идеалом для подражания у белорусских писателей.
В западноевропейской литературе богатырем казался Максиму Бальзак.
Из писателей-нашенивцев выделял Максим Янку Купалу и Якуба Коласа, которых хорошо знал и с которыми дружил. «Новую землю» Якуба Коласа Максим считал лучшим произведением белорусской литературы. Янку Купалу Максим ставил рядом с Шевченко и Мицкевичем.
Змитрок Бядуля был самым близким другом Максима в нашенивский период, Бядуля писал Максиму длинные письма, наполненные романтической возвышенностью.
Уважал Максим, как звезду белорусской поэзии, и Максима Богдановича; очень ценил его публицистические статьи».
А мы тут напомним еще и Чехова. Не ради того, чтобы увеличить список, круг литературных интересов Максима Горецкого, и без того довольно большой.
Творчество Чехова — целый этап в развитии прозы XX столетия. Этот этап как-то коснулся и молодой белорусской прозы — и именно Максима Горецкого.
***
Заметно в таких рассказах Максима Горецкого, как «Черничка», «Ходяка», «Генерал», «На этапе» и некоторых других, что идейная цель, задача, которые в более ранних произведениях открыто выступали на первый план, здесь пошли вглубь, слились с самимматериалом. И не ослабела от этого, а стала как раз сильнее — та идейная целенаправленность творчества писателя.
Чеховская проза — лучший пример такой вот парадоксальности искусства, когда сила воздействия его вдруг резко возрастает за счет объективности авторского повествования.
А. П. Чехова, как известно, немало упрекала современная ему критика за «безыдейность», за одинаковое отношение к «добру и злу», за «объективизм» и т.д,
А он делал свое дело, и оказалось, что идейности его, идей достало не только своему времени, но и последующим десятилетиям. (Хотя сам Антон Павлович, поддавшись настроению, однажды сказал: «Меня будут читать 7 лет».) И достало, достает их не только русскому читателю, но и мировому.
Какие же они, идеи — такие долговечные, живучие, необходимые человечеству?
Это прежде всего идея гуманистической культуры, как самого главного, важного, необходимого в борьбе за любые иные идеи. Говоря, что он «с детства возлюбил прогресс», А. П. Чехов и прогресс тоже «проверяет» человечностью, гуманностью (или бесчеловечностью) самих «прогрессистов» (фон Корен в «Дуэли» — с его «стихийным» фашизмом за три десятилетия до появления политической программы фашистов в Европе).
Самое чеховское в Чехове, думается нам, вот это: особенно требовательно, строго, даже жестоко смотрит он, присматривается как раз к тому, что ему уже понравилось или может понравиться в человеке, в людях, в жизни. И не ради художественного объективизма это, а потому, что все большие исторические отклонения начинаются с маленьких, мелочных и именно нравственных.
Самое печальное и тревожное в «Вишневом саде» не то, что забыли в доме Фирса, «человека позабыли», старые хозяева сада, а то, что «позабыла о человеке» также и увлеченная предчувствием завтрашней разумной жизни молодежь...
Чехов как никто — и не разумом только или чувством интеллигента-гуманиста, но всем существом художника — ощущает, какая текучая, переходная и тонкая материя, субстанция, то, что называют и что называет себя справедливостью. Исторической, социальной, человеческой справедливостью. Люди не вышли еще из состояния, не оставили позы униженных и оскорбленных, а уж сами обидчики, человек гневается на пошлость, но пошло гневается, сражается с тупостью, а сам...
Это и у Достоевского мы найдем, вычитаем — такое предупредительно горькое и жестокое слово о человеке.
Что же здесь именно чеховское?
Чеховская идейность и идейная направленность произведений Достоевского, если сравнить их характер,— то это невидимая сила идейной «гравитации» (Чехов) и сила шквала, бури, стихии (Достоевский).
Бушевание стихий, каким бы мощным оно ни было, имеет начало и конец, имеет рубеж. Невидимые же, внутренние, «из самой материи» силы гравитации — всепроникающие и всегдашние.
Скрытая, глубинная идейность Чехова не отрицает всякой иной, самой шквальной, если идейность та гуманистически направлена.
Поэтому так высоко ставил он и творчество Толстого, и творчество Горького.
...Изменилась эпоха, люди переменились, поколения новые, столько всего произошло — человечество вскоре вступит в XXI столетие. А взгляд человека в пенсне все тот же, и в нем прежде всего — понимание, и людям, совсем новым поколениям он необходим, тот взгляд — чуть со стороны взгляд, в самую глубь.
И все та же боль за стеклышками пенсне, тревога, печаль, будто от ожидания, что человек, увлеченный своей правотой, не заметит, как переступит тоненький, почти невидимый рубеж, за которым начинается несправедливость и неправда. За которым борец с жестокостью мира сам становится жестокой силой. За которым жертва становится палачом. За которым морализация превращается в пошлость. За которым... А люди с новой энергией и даже самоотверженностью рвутся вперед, не замечая, что идут в противоположном направлении. А ведь жизнь одна, не перепишешь ее заново, жизнь всегда — «черновик», и жить людям всегда по черновику, и надо потому быть более требовательным к себе, своим мыслям, делам, чувствам в каждый момент, сегодня, не надеясь, что «светлое завтра» их подчистит, подбелит — надо сразу жить намного чище. Если человек хочет, чтобы то «завтра» было светлее...
***
Конечно, та «гравитационная», строго художественная идейность не привилегия и даже не открытие (в принципе) Чехова. К ней все время, всем могучим массивом двигалась классическая русская литература. Но в творчестве Чехова русский реализм (а тем самым и мировой) приобрел в этом отношении особенно отчетливое, как бы завершенное качество.
В этом направлении пробует двигаться и молодая белорусская проза — в творчестве Максима Горецкого. Но не только в его творчестве. Такое же качество замечает и ценит М. Горецкий и в произведениях других представителей молодой белорусской прозы, что мы ощутим, например, в такой характеристике творчества Змитрока Бядули:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





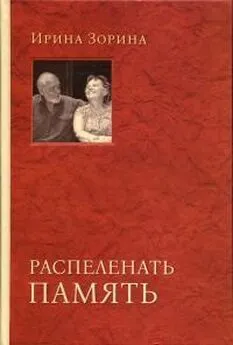
![Алесь Адамович - Каратели [litres]](/books/1078597/ales-adamovich-karateli-litres.webp)



