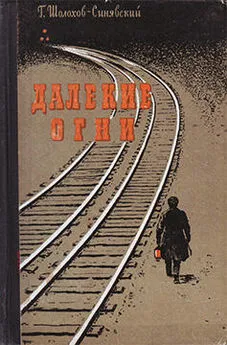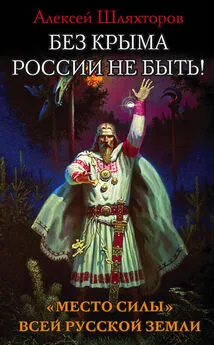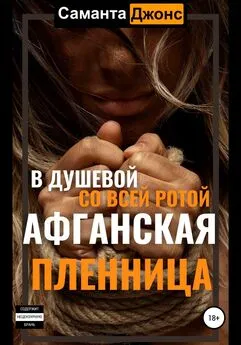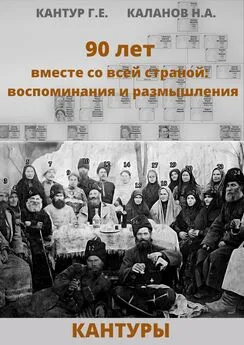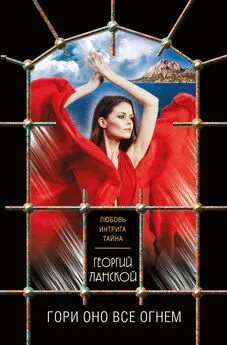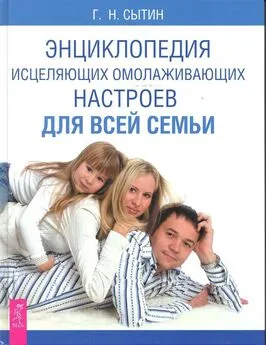Георгий Ковтунов - Всей мощью огня
- Название:Всей мощью огня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Ковтунов - Всей мощью огня краткое содержание
Всей мощью огня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В марте мы вели бои уже в Белоруссии. Артиллеристы полка поддерживали огнем действия стрелковых подразделений, которые временами оборонялись, временами несколько продвигались вперед. Каких-то существенных изменений в общую обстановку это вроде бы и не вносило, но каждая такая схватка с гитлеровцами, смею вас заверить, требовала полной отдачи сил.
К концу марта нашей дивизии удалось потеснить противника и довольно глубоко вклиниться в его оборону. Естественно, что нами предпринимались попытки развить успех, а фашисты стремились воспрепятствовать этому.
Однажды утром началась очередная атака стрелковых подразделений. В полосе 196-го гвардейского стрелкового полка вскоре выявились ранее неизвестные нам огневые точки противника. Я приказал гвардии капитану К. М. Воробьеву, который в то время командовал первым дивизионом, поставить две батареи на прямую наводку и подавить узлы сопротивления врага.
С наблюдательного пункта было хорошо видно, как солдаты на руках выкатывают пушки, разворачивают их. Ударили первые залпы. Об их точности и эффективности можно было судить хотя бы по тому, что наша пехота поднялась и снова пошла к вражеским траншеям. Это свидетельствовало о том, что фашистские пулеметы или, во всяком случае, большая часть из них замолчали.
Пулеметы замолчали. А вот орудия и минометы противника заговорили во весь голос. Причем огонь их в основном обрушился как раз на первую и вторую батареи, выдвинутые на прямую наводку. С тревогой наблюдал я за дивизионом, который оказался в весьма трудном положении. И тут вдруг вспомнил, что именно туда уехал ранним утром Николай Иванович Михалев…
— Соедините меня с Воробьевым, — приказал я связисту.
— Воробьев на проводе, — через несколько секунд доложил он.
В трубке все гремело. Чувствовалось, что Константин Михайлович кричит изо всех сил. Но грохот близких разрывов вражеских снарядов и мин почти совсем заглушал его голос.
— Как только пехота ворвется в первую траншею, убирай пушки в укрытия, в окопы, — надрывался я, догадываясь, что слушать Воробьеву еще трудней, чем говорить. — Понял меня?.. Понял, спрашиваю?..
— …нял, — донеслось сквозь грохот в ответ. — У нас…лев…анен…
В первый момент не понял Воробьева, а потом словно обожгло: «Михалев ранен!» Что с ним? Куда зацепило? Как чувствует себя? Но разве выяснишь сейчас все это, если бой продолжается, если слышимость такая, что доносятся лишь обрывки фраз?
Лишь часа через два мне доложили об обстоятельствах ранения майора Михалева.
Бой начался, когда он находился в первой батарее. Как ни уговаривал его комбат поостеречься, Николай Иванович оставался вместе с бойцами. Вместе с ними выкатывал пушки на позицию для стрельбы прямой наводкой. А потом, когда был ранен подносчик снарядов второго орудия, Николай Иванович выскочил из укрытия и занял его место в расчете. Вот тут-то замполита и зацепил осколок. Однако Михалев в первый момент даже не заметил этого, продолжал выполнять обязанности подносчика.
Осколок попал в правое бедро. Рана оказалась большой, рваной. К счастью, кость не была задета. Отважного политработника оставили лечиться в медсанбате. Теперь настала моя очередь навещать его. И я ездил к нему при малейшей возможности. А Николай Иванович всегда смущался, чувствовал себя виноватым. Дескать, только лишние хлопоты доставляю.
Рана у Николая Ивановича заживала хорошо. И я рискнул обратиться с просьбой к командиру дивизии о том, чтобы забрать Михалева в медсанчасть полка.
— Зачем забирать до выздоровления? — с недоумением спросил Алексей Иванович Баксов.
— Люди с большим уважением относятся к нему. Само пребывание Михалева в части окажет на них благотворное влияние, — не сдавался я.
— А медики возражать не станут? Учти, в этом отношении я им приказывать не могу.
— С ними попробую сам договориться.
Словом, через день Михалев был перевезен в медсанчасть. Радовался он этому, как мальчишка.
— Вот спасибо тебе, Георгий Никитович!
— Работать все равно не позволю, пока окончательно не поправишься, — предупредил я.
Но разве можно отлучить от дел такого человека, как гвардии майор Михалев? В какое бы время я ни заглянул к нему, всегда встречал кого-то у койки. И разговор, как правило, не о здоровье, не о хорошей погоде шел. Что поделать, уж таким человеком был заместитель командира полка по политической части!
А дней через двадцать, сильно прихрамывая, опираясь на палку, он уже самостоятельно передвигался от землянки к землянке.
— Хорошо-то как, Георгий Никитович! — частенько повторял он при встречах. — Солнышко как греет! Чувствую, жарким будет лето…
Белорусская земля
Да, весну 1944 года мы встречали уже на белорусской земле. Быстро таял снег. По ночам еще прихватывал морозец, а днем уже журчали ручьи, настойчиво прокладывая себе дорогу к малым и большим рекам. В конце марта дивизия, как и вся 6-я гвардейская армия, получила приказ перейти к жестокой обороне северо-западнее Невеля, в районе озер Березно, Свибло, Нещердо. Снова основательно строили блиндажи и землянки, оборудовали огневые позиции, искали места, в которых можно в относительно спокойной обстановке проводить занятия по слаживанию расчетов, батарей.
И пусть читатель не сетует на меня, что я вновь упоминаю обо всем этом. Таковы будни войны, таков один из основных ее законов: появилась малейшая возможность — закапывайся в землю, укрывайся. Тогда вражеские пули, мины, снаряды, бомбы будут не так страшны.
Работы по инженерному оборудованию, разумеется, не исключали артиллерийских дуэлей с гитлеровцами, поддержки и прикрытия наших разведывательных групп. Я имею в виду не наших артиллерийских разведчиков, а войсковых, которые в этот период значительно активизировали свою деятельность. Чуть ли не каждую ночь они уходили во вражеский тыл за «языками», для наблюдения за дорогами. Случалось, что разведывательные группы совершали дерзкие налеты на вражеские штабы, обозы. Однако основная их задача заключалась в том, чтобы добыть как можно больше сведений о расположении фашистских частей, их составе.
В эти весенние дни мне немало пришлось поездить по дивизионам полка. Не раз вызывали меня в штаб дивизии и даже в штаб армии на различные совещания и инструктажи. Во время этих поездок я получил возможность, как говорят, более или менее осмотреться. Едешь, бывало, и смотришь вокруг. Вроде бы и знакомые места, ведь именно здесь проходили совсем недавно с боями. Но я уже многократно убеждался, что в спокойной обстановке все воспринимается совсем по-другому.
Взять, к примеру, какую-нибудь небольшую деревушку. В условиях наступления или обороны оцениваешь ее чаще всего с чисто военной точки зрения. Каковы подходы к ней с той или другой стороны? На каком рубеже врагу выгодней организовать оборону? Где, наконец, могут укрыться его резервы? А тут, когда война ушла чуть-чуть вперед, уже начинаешь размышлять о другом. Невольно прикидываешь, сколько домов было и сколько осталось, пытаешься представить себе, как долго будут заново отстраиваться те, кто остался без крова. Здесь вообще трудно было найти хотя бы относительно сохранившиеся крестьянские дома. Местные жители рассказывали, что гитлеровцы зачастую специально сжигали хутора, целые деревни, поселки, чтобы создать невыносимые условия для партизан. Рассчитывали, как видно, на то, что в лесах долго не просидишь без связи с местным населением.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
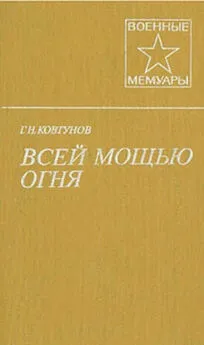


![Николай Лапов - Всей мощью огненных залпов [Документальная повесть]](/books/1073273/nikolaj-lapov-vsej-mochyu-ognennyh-zalpov-dokument.webp)