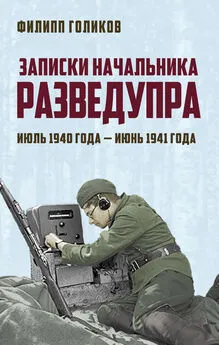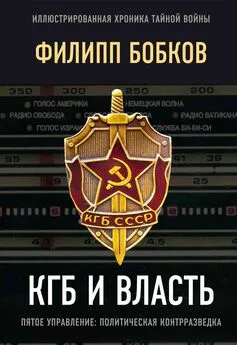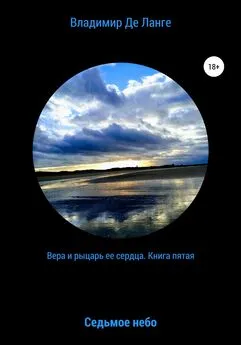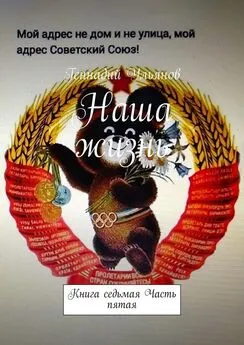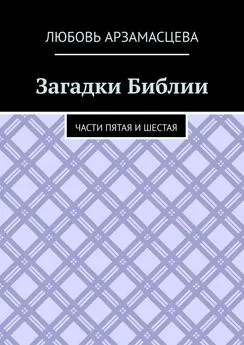Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая
- Название:Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Архив
- Год:1891
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая краткое содержание
Множество исторических лиц прошло перед Вигелем. Он помнил вступление на престол Павла, знал Николая Павловича ещё великим князем, видел семейство Е. Пугачева, соприкасался с масонами и мартинистами, посещал радения квакеров в Михайловском замке. В записках его проходят А. Кутайсов, князь А. Н. Голицын, поэт-министр Дмитриев, князь Багратион, И. Каподистрия, поколение Воронцовых, Раевских, Кочубеев. В Пензе, где в 1801–1809 гг. губернаторствовал его отец, он застал в качестве пензенского губернатора М. Сперанского, «как Наполеона на Эльбе», уже свергнутого и сдавшегося; при нём доживал свой век «на покое» Румянцев-Задунайский. Назначение Кутузова, все перипетии войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, первые смутные известия о смерти Александра, заговор декабристов — все это описано Вигелем в «Записках». Заканчиваются они кануном польского мятежа. Старосветский быт, дворянское чванство, старинное передвижение по убогим дорогам с приключениями и знакомствами в пути, служебные интриги — все это колоритно передано Вигелем в спокойной, неторопливой манере.
Издание 1892 года, текст приведён к современной орфографии.
Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
9. Маяк, построенный в трех с половиною верстах на север от Еникале, у самого входа в Азовское море, на счет таганрогского купечества: довольно высокая башня, около которой нет никакого жилья. Ничего не может быть печальнее её окрестности. Маяк сей освещается только в мрачные осенние ночи; он зависел от Таганрогского градоначальства, но скоро должен поступить в ведение Керченского.
Ширина Керченского пролива или Босфора не во всех местах равная: один Таманский залив входит более чем на тридцать верст внутрь земли. Керченская бухта идет полумесяцем от Павловской батареи до безыменного мыса и имеет в окружности более двенадцати верст. Две косы: одна, северная, к Еникале, а другая южная, к Павловской батарее, с противоположного берега, подходят на расстояние шести верст, а фарватер более версты нигде ширины не имеет, так что мимо двух укреплений ни одно судно прокрасться не может: оно всегда от них будет на пушечный выстрел.
В сих местах томлюсь я уже несколько месяцев, скитаюсь по берегам этого Босфора, не встречаю ни одного давно знакомого лица, не слышу занимательных разговоров, не имею с кем бы обменять одной мысли. Всё вокруг меня пусто, печально, погорело. Не знаю, когда наступит минута избавления моего и не утешаюсь даже возможностью быть полезным. Говорят, будто я здесь начальствую; но люди, с которыми осужден я жить, соединяя варварство с хитрою злобою и невежество ума с развратом сердца, хотя и низко мне кланяются, но к прямодушию моему питают сильную ненависть. Положиться ни на кого и ни на что не могу. Я не похищал небесного огня, а как Прометей, которого баснословие приковало к Кавказу, я пригвожден к местам, ему соседственным, и пуще ястреба съедает меня грусть.
Мысленно переношусь я иногда в счастливые места и времена, когда я был молодь, здоров и весел, когда беспечно текла жизнь моя или в кругу родной семьи, или в кругу друзей и приятелей, мне Небом дарованных. В поднебесную возносят меня сии воспоминания; но зато, как тяжело упадаю я опять потом в сию пропасть, в сию Керчь!
Когда телесные мои страдания дадут мне отдых, когда больное, слабое зрение мое немного прояснеет, то скорее берусь я за перо: оно здесь мое единственное утешение. Без всякого плана, а только для рассеяния своего принялся я описывать всё виденное, слышанное и читанное мною о месте пребывания моего и даже о всём крае. Бог весть, как составилась, наконец, толстая тетрадь. Кто будет читать ее? По крайней мере, я постараюсь скрыть ее от всех глаз, и разве самым искренним, самым снисходительным знакомым решусь когда-нибудь ее показать.
О вы, почтенные друзья мои, которые служили мне образцами в молодости, были подпорой и утешением всей жизни моей, и теперь, когда дряхлость меня пришибла, когда в безлюдном, безотрадном заточении кончается неудачное мое служение, остались моим последним упованием, может быть, дойдет до вас когда-нибудь сия записка! Если вы загляните в нее, то вы не будете слишком строги: вы вспомните, что мне и на мысль никогда не приходило быть автором. Как узник, для развлечения, марает углем стены темницы своей, так я сим нескладным описанием облегчал иногда неизъяснимую тоску моего сердца.
III
В сей записке везде хвалили мы намерения правительства учредить в Керчи порт, указывали на сие место, как на самое выгодное для торговли, и в тоже время не совсем выгодно отзывались о г. Скасси, который подал об этом мысль и всеми силами поддерживает ее, Чтобы не быть обвиняемым в противоречии должно объясниться.
Во первых, мысль сия принадлежит не Скасси, а дюку де-Ришельё. Он гораздо после ее себе присвоил, и тогда только, когда увидел совершенную неудачу свою с черкесами. Но и тут ему только хотелось своротить внимание правительства и направить его на другой предмет, где бы еще несколько лет ему можно было обманывать.
Надобно наперед спросить: какая торговля может быть с Кавказскими народами и в чём она состоит? Вот ответы;
Можно делать условия с дикими, которые близки еще к первородному состоянию человека: они умеют еще хранить святость слова. Но какой трактат, какие клятвы могут связать людей, между коими отцы и матери малых детей учат воровать; между коими тот пользуется уважением, кто отличился обманом, внезапным нападением на соседа и приятеля и похищением его стад и рабов, людей, у которых нет никакой веры, а какое-то, перемешанное из христианства и магометанства, суеверие заступает её место?
Взаимные потребности делают между народами торговлю необходимою. В главном городе Черноморских казаков, Екатеринодаре, и в устье Лабинской крепости уже давно учреждены меновые дворы с черкесами. Что туда привозится и что обменивается? Казаки отпускают им одну только соль с своих озер, в которой они имеют нужду, и получают от них оленьи рога, в малом количестве шкуры волчьи и шакаловы, да лес, и то не строевой, а только для топлива. Вот чем всё ограничивается, и без совершенной перемены в положении сих народов никак умножиться не может. Надобно еще заметить, что в Екатеринодаре и Усть-Лабинской крепости одна только Кубань отделяет горцев от России, и что в Керчь им надобно гораздо далее идти.
Все нужды свои могут горцы удовлетворять дома: из шерсти, которую дают им стада, их жены ткут очень порядочное сукно, они же плетут так искусно серебряные тесьмы, которыми черкесы украшают свои наряды. Они сами научились делать обыкновенные оружия, турки доставляют им стволы ружейные и сабельные клинки, а они уже их отделывают и натачивают. Как быть с ними? Они в нас никакой нужды не имеют. Одни говорят, что надобно наперед просветить их и познакомить с нашими обычаями, чтобы после поработить; а другие, что прежде должно их покорить, а потом думать о их образовании. Нам кажется, что и то и другое есть дело весьма трудное, но возможное, и что оба вместе надо начать, искусно и усердно за то принявшись.
Прежде всего должно туркам заградить путь, отнять Анапу, Суджук-Кале и другие укрепления по восточному берегу Черного моря и поставить, сели нужно, эскадру, которая бы круглый год крейсировала и никому не давала бы приставать к берегам. Разделены будучи ущельем, по которому вытекает Терек, где учреждена военная дорога и построена Владикавказская крепость, отделены будучи с Юга от азиатских народов вновь приобретенными Закавказскими провинциями, с Востока Каспийским морем, с Запада от турок Черным и с Севера имея границей Кубань, Куму и Терек, надобно, чтобы, куда бы они ни сунулись, везде встретили Россию, карающую, сильную и вместе с тем милосердую и правосудную к покоренным.
Кажется, это была мысль генерала Ермолова. Его корпус был малочислен, а велико было пространство земель, ему вверенных. Присылаемые рекруты нескоро могли быть годными для службы; потребно было время, чтобы приучить солдат к климату, к опасностям, трудностям и образу тамошней жизни; за то берег он их, как зеницу своего ока. Сии недостатки должен был он заменять этим страхом, который рассевал он вокруг себя между злодеями, его окружающими. Его грозное имя в горах с ужасом произносилось, маленьких детей им матери пугали, и он положил уже начало покорения горцев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

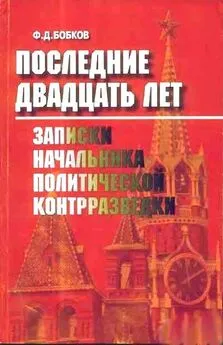

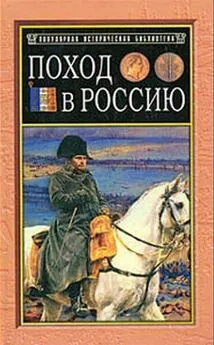
![Филипп Шотт - Случайный ветеринар [Записки практикующего айболита]](/books/1059404/filipp-shott-sluchajnyj-veterinar-zapiski-praktikuyu.webp)