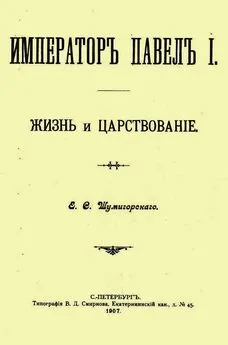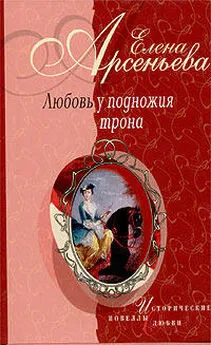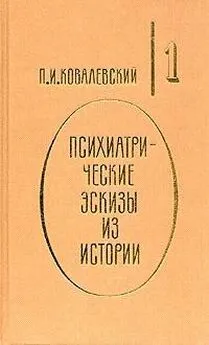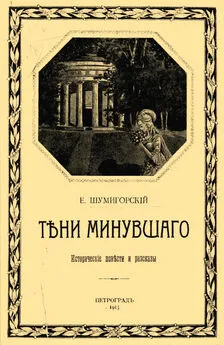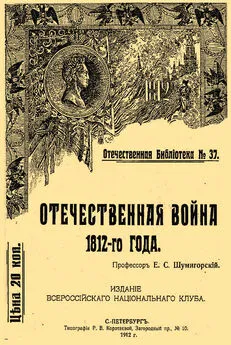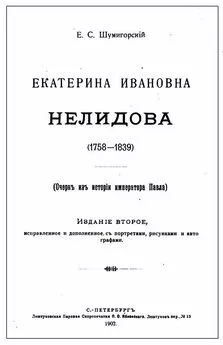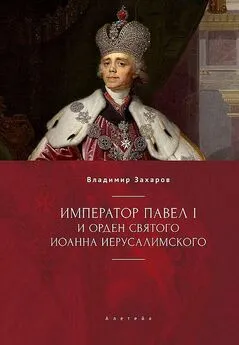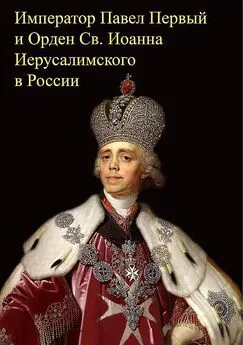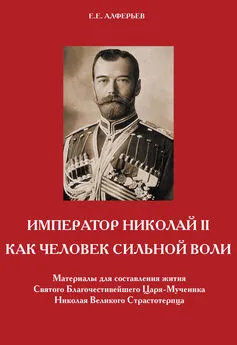Евгений Шумигорский - Император Павел I. Жизнь и царствование
- Название:Император Павел I. Жизнь и царствование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография В.Д. Смирнова
- Год:1907
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шумигорский - Император Павел I. Жизнь и царствование краткое содержание
«У нас нет даже краткого, фактического обозрения Павловского периода русской истории: анекдот в этом случае оттеснил историю» — пишет историк в предисловии.
Между тем в полной мере уйти от пересказа большого количества ярких эпизодов, в которых проявлялся эксцентричный характер императора, Шумигорскому тоже не особенно удалось.
В приложении к настоящему изданию помещены интересные для исследователей эпохи письма графов Никиты и Петра Паниных к императору.
Издание 1907 года, текст приведен к современной орфографии.
Император Павел I. Жизнь и царствование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И содержание, и тон этого чисто материнского письма должны были казалось «устроить» цесаревича. Мало того, не умея быть искренним в половину, он сам сообщил матери, что камергер Матюшкин истолковывал ему и великой княгине назначение Салтыкова желанием императрицы иметь шпиона при малом дворе. Разумеется, что императрица была возмущена этой попыткой Матюшкина «положить руку между коркой и деревом» и «поссорить мать с сыном и государыню свою с наследником». Но эти интриги придворных, сами по себе ничтожные, должны были повторяться и в будущем: причины разлада между Екатериной и Павлом лежали глубже, чем предполагал это сам Павел, и, употребляя сравнение Екатерины, класть руку между деревом и коркою» было возможно только потому, что между ними давным-давно образовалась пустота. В конце концов поняла это и Екатерина.
Возмужалый сын, в глазах многих законный наследник отца своего, Петра III, жаждал деятельности, участия в государственных делах; мать, с своей стороны, не желала и даже не могла, по условиям своего положения, допустить сына к соучастию в управлении государством: надежды врагов Екатерины, связанные с именем Павла, его характер, прямой и горячий, не давали возможности даже приблизительно указать предел, до которого могло бы дойти в будущем это соучастие; между тем права, данные Павлу раз, не могли бы быть уже отняты от него без потрясений. Уже в письме по поводу назначения Салтыкова, разрешая цесаревичу являться в себе на час или два в неделю для занятий государственными делами, императрица нечувствительно выразила свои опасения: она созналась, во-первых, что эти занятия были бы «в удовольствию общества» и, во-вторых, ограничила эти занятия беседами глаз на глаз, требуя, чтобы сын приходил в ней «один». Это было, следовательно, не участие в управлении государством, а слушание лекций по этому управлению, — лекций, без сомнения драгоценных для будущего русского государя, если бы он не был воспитан тайным недоброжелателем Екатерины, «сатирически» относившимся в ее действиям. На лекции эти Павел должен был смотреть как на продолжение своего образования во втором периоде своего воспитания и, без сомнения, скучал по практической деятельности, отмечая в государственных беседах с матерью главным образом лишь пункты своего несогласия с нею; сама Екатерина, при обмене мыслей с сыном, также должна бы вынести убеждение, что ее политические взгляды совершенно противоположны его взглядам. Беседы эти были притом, очевидно, односторонни, ограничиваясь текущими делами: императрица не посвящала сына в свои планы, не доверяла ему дел, считавшихся государственною тайною, быть может предполагая и не без основания, что великий князь будет делиться этими сообщениями с Паниным [21]. Что сам Павел Петрович не придавал беседам с матерью особого, практического значения для подготовки к управлению государством, видно из того, что, по вступлении своем на престол, он допустил своего наследника, в том же 20-летнем возрасте, в широкому участию в государственных делах как военных, так и гражданских. Между тем, сам Павел не мог быть допущен матерью даже в совет при высочайшем дворе: здесь, при своем горячем и открытом характере, Павел волей-неволей очутился бы во главе оппозиции, сделался бы орудием партии, враждебной императрице, привлек бы на себя общественное внимание и, кто знает, в пылу борьбы, при всем уважении своем к законности, нечувствительно втянут бы был своими сторонниками в какое либо «действо». В этом отношении Екатерина была права с своей точки зрения, твердо помня прошедшее и как бы предугадывая будущее… С этой точки зрения, даже искренность отношения к ней сына, доказанная изобличением интриг Сальдерна и Матюшкина, не имела для нее цены, хотя, с другой стороны, она была для нее весьма полезна, уясняя сторонникам прав цесаревича, как мало могли они доверять его сдержанности, если касались его чувств. Практически дело сводилось к тому, что великий князь продолжал командовать кирасирским полком и подписывал бумаги адмиралтейств-коллегий, но званию своему генерал-адмирала: флоту он не смел показываться и им на деле никогда не командовал.
Впрочем, как бы лично мать с сыном ни старались поладить между собой, установив соглашение на взаимных уступках — Екатерина была не одна: ее окружали, ее поддерживали ее «пособники», бывшие враги Петра III, память которого сыновне чтил цесаревич. Для них призвание Павла в деятельности было бы громовым ударом, источником постоянных тревог за настоящее и будущее: при искренности цесаревича, ни для кого не было тайной, что Панин, сам не последний участник переворота 1762 г., успел, с целью унизить Екатерину, внушить своему воспитаннику, что, Петр III принялся заводить порядок, но стремительное его желание завести новое помешало ему благоразумным образом приняться за оный; прибавить в сему должно, что неосторожность может быть была у него в характере и от нее делал многие вещи, наводящие дурные импрессии, которые, соединившись с интригами против персоны его, а не самой вещи, погубили его и заведениям порочный вид старались дать». В лице Павла Петровича нарождался для деятелей 1762 г. грозный судья и мститель… Кто из советников императрицы не предпочел бы видеть сына ее возможно далее подальше от дел? Не являлось ли это лучшим средством не вызывать опасной памяти о столь еще недавнем прошлом?
Тень Петра III вставала в это время сама собою в грозном восстании на далеком Яике. Чрез неделю после бракосочетания Павла Петровича с Наталией Алексеевной в Петербурге разнеслась весть о появлении самозванца — Пугачева, принявшего на себя имя покойного императора и призывавшего к себе любезного сына — Павла Петровича. Существуют достоверные свидетельства самой Екатерины, что цесаревич строго, строже чем она сама, относился к бунту и его руководителям. Но не менее достоверно и то, что самая форма бунта, появление самозванца и народное противопоставление интересов великого князя интересам императрицы, должны были повести к частым весьма щекотливым объяснениям между матерью и сыном или к столь же частым и не менее щекотливым умолчаниям. Ближайшим советником императрицы сделался в это время Потемкин, и на ряду с ним цесаревич чувствовал себя при матери на заднем плане. Павел слушал лекции, а ход событий направляем был рукою счастливого временщика. Павел желал доказать и свои способности к занятиям государственными делами и в 1774 г. представил матери свое «Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов». Павел доказывал, что наступательные войны, которые вела Россия, вредно отзываются на ее благосостоянии, что военная система государства должна иметь целью лишь оборону его и что, для избежания злоупотреблений, вся высшая власть должна быть подвергнута строгой регламентации. По существу своему «Рассуждение» Павла было критикой Екатерининского царствования, бывшей отзвуком речей Панина, а в чисто военной части — пробой преобразования русской армии по прусскому образцу. Чувствуя, вероятно, что «Рассуждение» его не понравится императрице и не будет одобрено Потемкиным, занимавшим пост президента военной коллегии, цесаревич заканчивал свой труд следующими задирательными по отношению к советникам Екатерины словами: «Совершил намерение сделать себя полезным государству, писав сие от усердия и любви в отечеству, а не по пристрастию или корысти, в такое время, где, может быть, многие забыв первые два подвига (т. е. усердие и любовь в отечеству), заставившие меня писать, следуют двум последним (т. е. пристрастию и корысти), и что больше еще, и жертвуя всем тем, чего святее быть не может. А сему я был сам очевидцем и узнал сам собою вещи и, как верный сын отечества, молчать не мог».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: