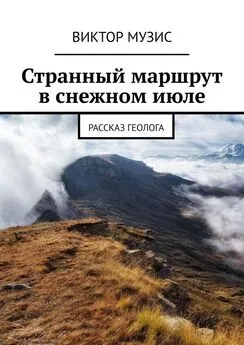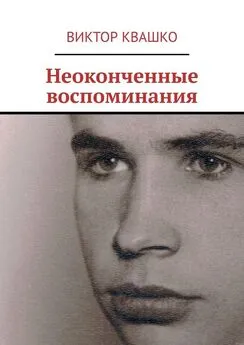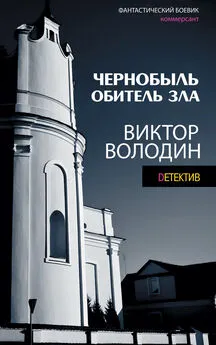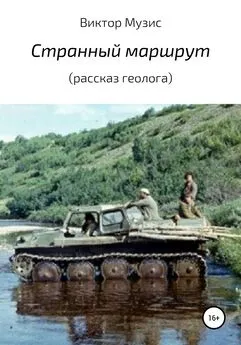Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот на этой горке из деревьев и разного мелкого дровяного лома, высушенного на солнце и затем вымокшего под дождем, и жил теперь наш беглец, продолжая, с одной стороны, мокнуть под дождем, а с другой — подсушиваться у костра. Это было не страшно в конце июня и всем нам хорошо знакомо по собственной многократной практике. Он постоянно и почти непрерывно напоминал о себе, производя большой шум при заготовке дров для костра, и затихал, только когда засыпал. Над горой деревьев, где он жил, постоянно вилась струйка дыма от костра.
Потом дождь перестал. Стала постепенно спадать и вода, и настал день, когда я решил, что завтра утром Андрей Ручка поведет беглеца на прииск и сдаст его оперативному уполномоченному, которому я уже заготовил соответствующую бумагу.
Вечером Робинзон долго возился с костром, стучал дровами и долго не затихал, но, наконец, угомонился и, казалось, заснул. Не проснулся и не вылез наверх из-за своей дровяной баррикады он и утром, когда все наши были уже на ногах. На острове продолжал пылать костер, валил дым.
Начали, как обычно, окликать беглеца: «Эй, Робинзон, вставай, лови передачу», но он в ответ не проявлял признаков жизни. Это показалось подозрительным. Малыгин поехал на плотике на остров и обнаружил, что Робинзона нашего и след простыл, а костер он оставил гореть нарочно для отвода глаз.
Оказалось, что он так долго и возился накануне поздно вечером, что был занят сооружением плота. Как он это делал, не имея никакого инструмента, и чем он связывал свои два-три бревнышка, из которых мог получиться, очевидно, только самый примитивный плотик, на котором можно плыть, только лежа на нем животом, подобно сфинксу, и вымачивая свой окоченевший от холода живот в ледяной воде, осталось для меня загадкой.
Загадочной осталась и дальнейшая судьба нашего Робинзона, вряд ли он оставался живым даже до осени того же 1945 года.
На Таяхтахе
Вскоре после начала полевых работ мы оказались в верховьях речки Таяхтаха, что в переводе с якутского языка означает «Лосевая» или «Сохатиная». Нужно сказать, что это якутское название речки было очень метким и действительно отражало положение вещей. Следов пребывания сохатых было здесь много. И отпечатки их копыт на влажном песке у русла реки и ее притоков, и заломленные, свисающие вниз ветви тальника с обглоданными листьями, и, наконец, следы их хорошего пищеварения — все говорило о том, что этих зверей здесь много. Правда, живых лосей я здесь не видел, но это, как я знал, происходило только потому, что зверь этот осторожен, имеет хорошее зрение, обоняние и слух, а геологу приходится шуметь, разбивать молотком камни, и соблюдать тишину он не может.
Лепихину выпала честь открытия там, на Таяхтахе, окаменелости, датирующей осадочную толщу анизийским и ладинским ярусами среднего триаса. В тот вечер я тоже пришел с фауной. Но я собрал обыкновенную верхнепермскую, можно сказать, пошлую фауну, а Лепихин нашел и собрал среднетриасовую и притом обильную фауну и, что особенно было интересно, на заболоченном участке водораздела в депрессионном участке. Там, в выветренном элювиально-делювиальном слое, при его оттаивании весной образуются характерные для участков полигональных почв грязевые конвекционные токи, приводящие к образованию полигональных почв и каменных колец.
В этих так называемых каменных кольцах среди редких и мелких обломочков глинистых сланцев довольно часто встречаются эллипсоидальные, овалоидные и круглые кремневые или глинисто-кремневые конкреции, нередко заключающие в себе остатки окаменелых аммонитов среднетриасового возраста. Вероятно, в связи с прокаливанием горных пород этого участка во время, возможно, неоднократных, лесных пожаров среди конкреций, носящих иногда явные следы ожогов, преобладают не целые, а расколовшиеся — обнажающие в изломах аммонитов.
Последующими маршрутами мы с Лепихиным проследили те же отложения в ряде разрезов по отрогам водораздела, пересекающим полосу среднетриасовых отложений.
В тот вечер, когда Лепихин, ходивший почему-то, как и я, один, в первый раз принес среднетриасовые окаменелости и показывал их мне. Когда я уже все посмотрел, он вынул еще что-то завернутое в тряпку и со словами: «А эта фауна как вам понравится?» подал мне. В тряпке оказался язык лосихи. Рассказал, как он шел по тому самому отрогу водораздела, на котором собирал окаменелости, и, раздвинув ветви куста ольхи перед собой, вдруг увидел лосиху, которая, вскинув голову и поставив вертикально уши, повернутые раковинами ему навстречу, широко открыв ноздри, нюхала воздух, слушала подозрительные шорохи и смотрела прямо в сторону Лепихина. Но его она почему-то не успела увидеть, когда он шел, раздвигая кусты, а теперь он уже сидел, не шевелясь, в кусте, и она уже не могла его видеть. Сидел он так недолго. Ружье — одностволка-ижевка, так называемая Ижевск-Джонсон Джонсон, выменянная минувшей зимой за две пачки махорки, — было у него в руках, и он решил стрелять, пока она еще не пустилась вскачь прочь от него. Прицелился в лоб, нажал гашетку — мимо. Корова сделала резкий прыжок в сторону и опять застыла, повернувшись на 90 градусов, обратив теперь к нему свой левый бок. Должно быть, ее обмануло эхо и ей показалось, что опасность ей угрожает с той стороны.
Во второй раз Лепихин уже не промахнулся, и она была убита. Телок, который был с ней, долго не хотел уходить, но потом убежал. Этот поступок Лепихина я, конечно, осудил, — это было браконьерство, не вызванное даже необходимостью, потому что продукты у нас были в достаточном количестве. Долго говорили об этом.
Но тем не менее мясо нужно было забрать и использовать, раз уж так получилось. Да и, кроме того, местному населению — якутам и орочам разрешается убивать лосей, и они это делают постоянно. Запрещается только нам. Поэтому на другой день я, Лепихин и Карпенко собрались с утра пораньше на то место. Ободрали и разделали тушу, разрубив ее топором и разрезав на части. Потом на северном склоне отрога сняли большим пластом мох, обнажив мерзлый грунт со льдом, сложили на этом участке все мясо, укрыли его мхом, нарезанным дополнительно на соседних участках, и сверху навалили ветвей с листьями, хотя, собственно, солнечные лучи не доставали до этого участка. Только шкуру мы развесили на просушку, вывернув ее мездрой наружу.
Потом с мешком, наполненным мясом, вернулись к себе в палатку. По дороге я придумал, как сделать котлеты, не имея мясорубки. Я решил, что можно обойтись топором. Прежде всего, нужно было сделать толстую деревянную плашку, на которой потом рубить топором же мясо.
Так и сделали, по неопытности рассчитали плохо, и котлет получилось больше, чем было нужно. В общем, их оказалось много, а нас мало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

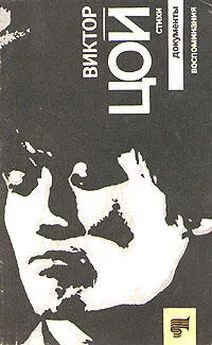


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)