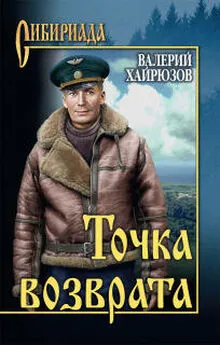Валерий Хайрюзов - Черный Иркут
- Название:Черный Иркут
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Буква Статейнова»
- Год:2018
- Город:Красноярск
- ISBN:978-5-9500641-6-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Хайрюзов - Черный Иркут краткое содержание
Два потока — Белый и Чёрный Иркут — впадают в Ангару. По бурятской легенде, Белый — вместилище добрых духов, Чёрный — тёмных, а слившись в единый поток в черте города Иркутска, они стали как бы прообразом человеческого духа, людских страстей, где нет одной краски и одного настроения.
Лётчик, командир корабля, пилот первого класса, Валерий Николаевич Хайрюзов родился в Иркутске в 1944 году. Окончил Бугурусланское лётное училище и Иркутский госуниверситет. Широкому кругу читателей стал известен за книги «Непредвиденная посадка» и «Опекун», которые были отмечены премией Ленинского комсомола. Автор книг «Непредвиденная посадка», «Почтовый круг», «Истории таёжного аэродрома», «Приют для списанных пилотов», «Последний звонок», «Капитан летающего сарая», «Колыбель быстрокрылых орлов», «Юрий Гагарин. Колумб Вселенной» и других. По его пьесам поставлены спектакли «Сербская девойка» и «Святитель Иннокентий» — отмечены главными призами Международного театрального фестиваля «Золотой витязь».
В. Хайрюзов — лауреат Большой литературной премии России. Его книги переведены на многие европейские и восточные языки.
Черный Иркут - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я попросил руководителя полётов вместе съездить на полосу и своими ногами поискать возможность для взлёта. В противном случае сидеть нам здесь как минимум неделю. Проехав по лужам и грязи в начало полосы я, вглядевшись, понял: взлететь нельзя, прямо как в канаве, по центру полосы, насколько хватало глаз, было настоящее болото. А вот по краю, впритык к бакенам, взлететь было можно. Здесь узкая полоска земли была чуть повыше и почти не залита водой.
«Взлёт должен быть точным и выверенным, как выстрел! Главное — выдержать направление и не задеть винтом боковые бакены. И удержать от касания переднее колесо», — подумал я и сообщил руководителю, что попытаюсь взлететь. Он кивнул головой, понимая, что я принимаю командирское решение, за которое и несу ответственность.
Уже много позже я пойму, что в литературе, как и в жизни, главное — выдержать принятое направление и не метаться, не приспосабливаться, не останавливаться на ходу. И если начал движение, пошёл на взлёт, никогда не опускай, как и поднятое переднее колесо, свой нос, держи его по горизонту.
Мы вырулили на взлётную полосу, встали напротив намеченной узенькой полоски. И, получив разрешение, я начал взлёт. Моторы взревели, взвились до хрипоты, до визга на взлётный режим; через несколько секунд я оторвал переднее колесо и держал на весу, не давая ему соприкасаться с водой, потому что с винтов, из-под колёс во все стороны летело вперемежку с песком, пытаясь остановить движение самолёта, грязное водяное крошево.
Неестественен этот разбег,
неестественно чувство полёта,
неестественен этот побег
и пронзительный вой самолёта…
Это стихи и впечатления поэта Куняева — единственного постороннего человека, который в этот миг был в кабине самолёта.
Мы взлетели. Позже руководитель полётов скажет: «Это был взлёт не самолёта, а глиссера». Через несколько минут мы пробили облачность, и перед нами встало тёплое ласковое солнце, а нам, всем сидящим на лётных сиденьях между небом и землёй, показалось, что мы вырвались из преисподней. Я посадил промокшего Куняева на правое пилотское кресло, и он поглядывал то на приборы, то на вынырнувшую откуда-то из-под носа самолёта Подкаменную Тунгуску, которая, неспешно двигаясь с самолётом в одном направлении к северу, тёмной блестящей косой вязала по тайге петли, показывая себя во всей своей угрюмой красоте.
— Угрюм-река, как назвал её писатель Вячеслав Шишков, — сообщил я Куняеву. — Вот бы сейчас туда, — я кивнул на тайгу. — Сколько там брусники и черники!
И неожиданно услышал от Куняева стихи, которые он посвятил Вячеславу Шугаеву:
Полыхали цветы, отцветая,
ожидая пришествия снега,
и свистела утиная стая,
улетая в тунгусское небо.
Глухари осторожно кормились
на кровавых брусничных полянах.
Облака над Тунгуской теснились,
словно души племён безымянных…
В Ербогачене, который эвенки называют Песчаным Холмом, было тепло и сухо. Наш самолёт по обыкновению первыми встретили сибирские лайки, они обнюхали куняевский рюкзак и расселись кружком, с любопытством поглядывая на прилетевших. Надо сказать, что охотников они чуяли на расстоянии. К Станиславу подошли Степан Фарков, Миша Колесников, они стали обнимать своего давнего друга. Куняев, прощаясь, подписал мне книгу, назвав «асом сибирского неба». И чуть ли не на первой странице я прочитал стихи, посвященные Вадиму Кожинову:
Птица взмыла, но не удержалась —
видно, воздух исчез под крылом,
и влепилась в стекло, и осталось
лишь пятно на стекле лобовом…
Я глянул на лобовое стекло самолёта — оно было заляпано кусками засохшей аэродромной грязи. Бортмеханик подогнал машину и пытался отмыть пристывший песок и глину с крыльев и капота самолёта, а техник напильником снимал заусенцы с винтов. К самолёту, пятясь, подъехала карета скорой помощи, началась посадка больных детей.
В те времена это была для нас повседневная, обычная работа пилотов гражданской авиации, где тебе не стелили ковровых дорожек и до всего приходилось доходить своими руками. Мы любили свою работу, и она платила нам той же монетой. Ведь, как известно, за всё надо платить.
Сегодня, вспоминая то время, я уже понимаю, что началом творчества, несомненно, служат впечатления; потом, когда уже приступаешь к работе, очень важны детали. Здесь на память приходят отложенные в долгий ящик встречи, эпизоды, вроде бы как случайно оброненные слова. Перед тобой начинает двигаться прожитая жизнь, она — как поток, как полёт, в котором ты всегда, пока бьётся сердце, исправляешь недочёты и несовершенства человеческой природы. И где всё, как и в лётной работе, должно быть на своём месте, выверено, точно и по слову, и по движению, и по смыслу.
Через год после того памятного взлёта я написал очерк о полётах в небе Восточной Сибири, назвав его «Непредвиденная посадка», следом другой — «Командировка в Киренск». Эти очерки будут опубликованы в журнале «Наш современник». И с тех пор журнал стал для меня родным и близким, хотя я тогда жил и работал в Иркутске. А позже, когда я «приземлился» в Москве, к большой радости всех моих земляков, и не только земляков, главным редактором «Нашего современника» стал Станислав Куняев — тот, кто видел, как взлетает самолёт с болота. Это у него после поездок на Север, в Ербогочен, после дружеских встреч с сибиряками, друзьями по рыбалке и охоте родилось прекрасное стихотворение:
Милый мой,
попрощаемся, что ль,
и, предчувствуя скорую вьюгу,
сдержим в сердце взаимную боль,
пожелаем удачи друг другу…
Даже рябчик
и тот, ошалев
от простора, что ветер очистил,
ослеплённый, летит меж дерев
и, конечно же, прямо на выстрел.
Вампилов
Вода пахнет вечностью
Старый особняк, в котором размещалась Иркутская писательская организация, дышал на ладан. Но всё равно каждую литературную пятницу он был переполнен. Сюда для обсуждения очередной публикации или книги приходили преподаватели вузов, студенты, вернее, пробующие себя в поэзии студентки, актёры, журналисты, режиссёры и иные залетающие на огонёк местные знаменитости.
Впервые порог Дома литераторов я переступил поздней осенью семидесятого года. Принёс свой первый рассказ «Санзадание». Встретила меня секретарша Союза писателей Неля Суханова и попросила оставить рукопись на подоконнике.
— Я хотел бы, чтоб её прочитал Геннадий Машкин, — попросил я.
К тому времени автор знаменитой повести, переведённой на многие языки, — «Синее море, белый пароход», с которым мы познакомились, был единственным писателем, которого я знал. С ним мы познакомились, когда он выступал у нас в лётном отряде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
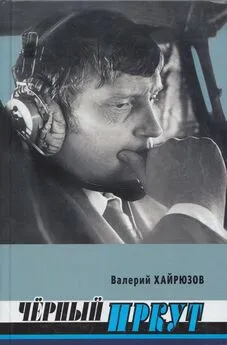
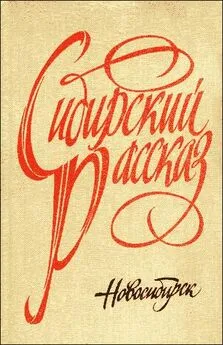
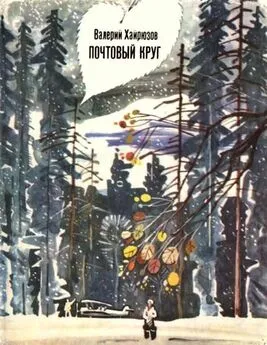
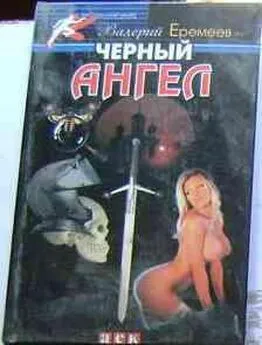
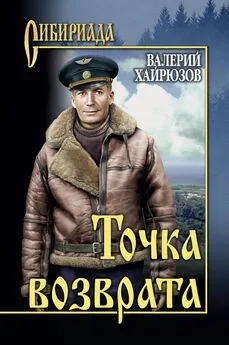
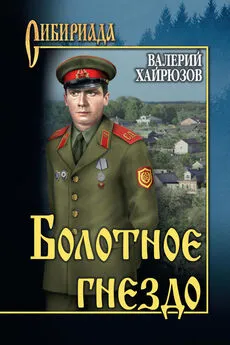
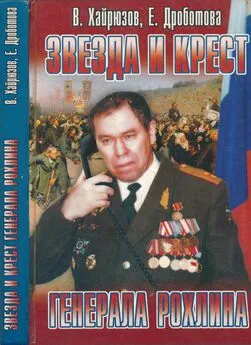
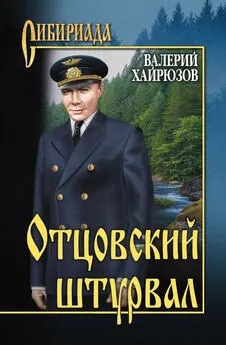
![Валерий Хайрюзов - Приют для списанных пилотов [Повести и рассказы]](/books/1097627/valerij-hajryuzov-priyut-dlya-spisannyh-pilotov-pove.webp)