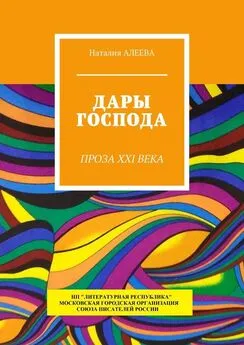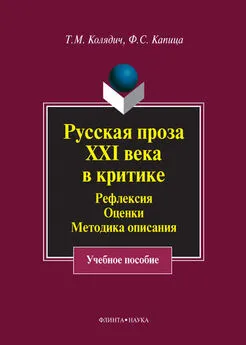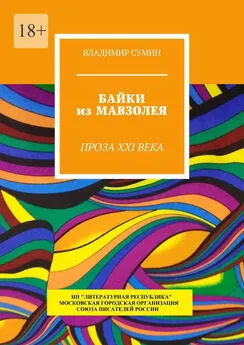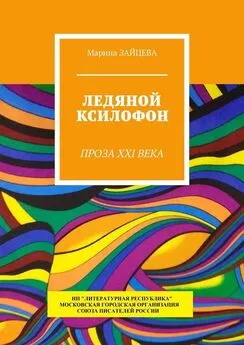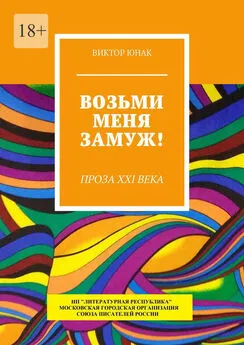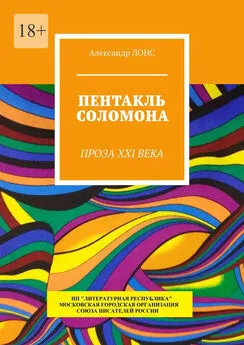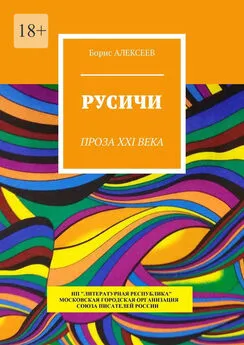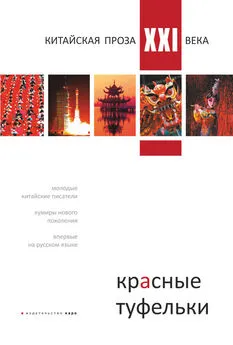Наталия Алеева - Дары Господа. Проза XXI века
- Название:Дары Господа. Проза XXI века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785794908237
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Алеева - Дары Господа. Проза XXI века краткое содержание
Дары Господа. Проза XXI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рано или поздно каждый человек оказывается перед этими вопросами. Только одному они могут открыться в последние секунды его земного бытия; другой – уже нечто ведает с детства, а иные, предчувствуя тайну, ищут ответы всю свою сознательную жизнь…
Бывает, что ребёнок, подняв пальчик, вдруг говорит, что на Небе есть Бог, и сердце умиляется. Но когда взрослые назидательно восклицают «и всё-таки, там Кто-то есть!..», они обнажают свою беду, ибо невежество в духовных законах – это не просто этический аутизм, а изъязвленность самого человеческого образа: когда детская вера человека не взрастала вместе с его земными годами…
Если познание физических законов открыто для нас, и мы изучаем их с детства, то законы духовные, несмотря на их непреложность и могущество, для многих остаются неведомыми. О них не рассуждают в семьях, им не нашлось места в школьных программах – нет такого предмета, где бы обсуждались вопросы жизни и смерти, духовного пути человека на земле, словно эти стороны человеческого бытия призрачны и нереальны. Но великий учёный и тайный монах Алексей Лосев утверждал, что «Мир чреват смыслом»…
В детстве, в счастливом детстве, кажется, что мир взрослых – это мир радости и добра, а если случаются печали, то лишь оттого, что ты ещё не стал достаточно взрослым. Такое ощущение дарит семья, где утишины внешние катаклизмы и главенствует Добро. Добросердечие домочадцев и книги, на страницах которых людские мнения поверяются истиной Любви, одаряют маленького человека призором Света, ведь недаром в Священном Писании сказано, что «Молитвами родителей созидаются дома детей»…
Однажды, не соглашаясь в чём-то со своей четырёхлетней дочкой, я скала в сердцах:
– Ты ничего не знаешь.
– Нет, знаю, – ответила она.
– Что же ты знаешь?
– Я знаю, что у слонов есть хобот. Что у человека есть душа. И что, в конце концов, у человека должно быть доброе сердце… – и заплакала от обиды непонимания…
В советские времена первый урок сентября в нашей школе начинался с разговора о любви к Родине. Занятие это, приправленное идеологическими назиданиями, никого не трогало, тем более что ещё так томительны были воспоминания о свободах канувшего лета. Суть тех уроков была чуждой, ибо не касалась того, о чём следовало бы говорить с человеком от самого истока его жизни: «Ты пришёл в этот мир, а не мир – к тебе. Поэтому старайся, ничего не нарушив, вписаться в него и сделать так, чтобы он тебя принял и полюбил. Не надо срывать первые весенние цветы – просто любуйся ими и дай радоваться весне, дай увидеть их красоту другим; переступи через муравья, ибо у него свой круг жизни, и, видишь, он торопится по своим делам и заботам (тут можно вспомнить сказку Виталия Бианки „Как муравьишка домой спешил“); выпавшего птенца из гнезда справедливо вернуть его родителям – ведь всё это разные стороны извечной гармонии мира, и всё сущее на земле, как и ты, имеет право на жизнь. И каким бы ты не был маленьким, ты сильный по отношению к тому, кого необходимо защитить. Мир надо слышать и видеть, а не потреблять, ибо у всего вокруг есть своя душа, и она скорбит, если человек бездушен и жесток. К тому же, кто великодушен и рачителен, того Бог одаряет радостью!»
Так мы и беседовали с моей маленькой девочкой, которая дошкольные годы проводила со мной на даче, и мир для неё был средой, которой надо восхищаться, любить и сочувствовать. Малышке было чуть больше четырёх лет, когда однажды она пришла ко мне в спальню и, увидав томик Бунина, сказала:
– Давай, я тебе расскажу о писателе, о Бунине?
Я обрадовалась, потому что, во-первых, слово «Бунин», оказалось первым прочитанным ею словом; во-вторых, она говорила всегда такие интересные вещи, что я их записывала. Поэтому и в тот раз я быстро взяла ручку:
– В детстве он молился Господу и говорил: «Господи, прости меня, прости все мои грешные ошибки…» И он тоже очень честно молился Марии. И вот он говорил Марии: «Мария! Прости меня тоже, пошли в Рай Небесный и помоги мне от всех моих грешений избавиться!» И говорит ему Мария голосом невидимым, и говорит ему: «Я тебя спасу. Ты будешь на Небесах благородным, красивым, верующим человеком!» Ангелы очень обрадовались и стали танцевать на Небе как весёлые лучики солнца. Они стали улыбаться, и Бунин тоже стоял одной ногой, где танцевали ангелы, и тоже в его ресницах почувствовалось чистое сомрание духа и тот же Рай…
– А что такое «сомрание духа»? – спросила я
– «Сомрание» – это падающая тень сердца почувствовалась… И когда он воскрес на Небесах, это было очень радостно, и в его сердце почувствовалось веселье, и его душа тоже очень веселилась на чистой поляне Рая. И вышла к нему Мария с Господом, как Отцом и Сыном и Святым Духом, и сказала ему: «Я тебе помогла. Ты будешь жить в Рае и нюхать небесные цветы Рая». И Бунин сказал: «Ты мне помогла, и я очень рад, моя любимая Мария, со вниманием». Бунин упал на колени перед Марией. И Мария сказала: «Ты будешь таким же красивым и благородным человеком как Мой Сын. Но ты был человеком. И я тебя спасала, как могла, потому, что и я тоже была человеком»…
Святой Старец Иоанн Крестьянкин наставлял своих слушателей: «Молитесь о детях, показывайте им в жизни следы Промысла Божия, который созидает жизнь. Не о Боге им толкуйте, а о жизни, которая может быть с Богом и без Него».
…И теперь, когда уже прошло много лет с тех пор, всё-таки с горечью ощущаешь, сколько времени прошло «сквозь пальцы», и как часто вместо того, чтобы обретать «умное сердце» мы размениваем свой талант веры в буднях суеты…
Как я догнала свой «Трамвай»
Прошлое в памяти обычно подёргивается благорастворёнными токами, и всегда кажется, что «раньше было лучше, чем сейчас». Но у каждого – своё былое, а моё, как я могу теперь утверждать, было, воистину, счастливым, ибо я жила не в городе, а на даче, встречая новые времена года с прилётами снегирей, скворчиными боями за гнездовья и наблюденьем, как крохотная мухоловка кормит кукушонка, садясь ему на плечо. Я жила в доме, сад которого с двух сторон окаймлял лес. Весной из окон кабинета казалось, что синева неба рухнула сквозь деревья на освободившуюся от снега землю, и я приглашала друзей на подснежники. По ночам под берёзами горел костёр, и было слышно, как растёт сквозь прошлогоднюю листву новая трава. В рукотворном пруду пели соловьями лягушки, и после аквариумной зимы мерцали, не опускаясь в глубину, золотые рыбы. На живом корме к осени они вырастали в «золотых карпов». А сколько ежей, котов и собак становились моими питомцами в те годы!
Зимой на нашей улице по будням обычно светились окна только двух домов: в том, где была я, и соседнего, где жил писатель Анатолий Рыбаков. Ещё в раннем детстве я помнила его молодым, только что издавшим книги «Кортик» и «Бронзовая птица». Тогда он звонко смеялся. И если, уезжая в Москву, задерживался, просил позаботиться о черно-белой дворовой собаке Кузе – моём верном друге. Помню сидящую в кресле старенькую маму Анатолия Наумовича и её воздыхания: «У Толечки такое доброе сердце, вот и собаку подобрал…» Позже писатель Рыбаков уже редко смеялся и совсем не любил собак. Но окна кабинета, выходящие на заасфальтированную дорожку, всегда окаймляли его силуэт за письменным столом, над которым провозглашалось: «ЧТОБЫ НАПИСАТЬ, НАДО ПИСАТЬ!» И он работал, казалось, всегда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: