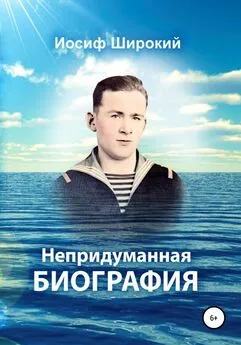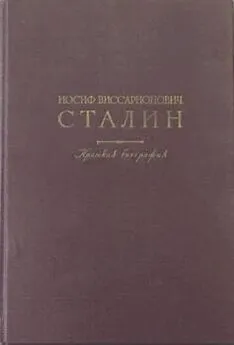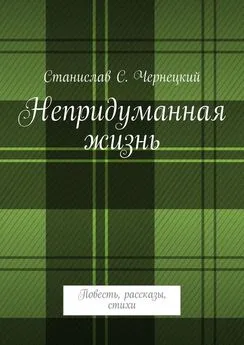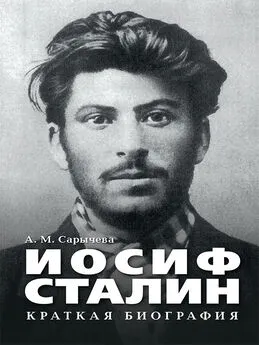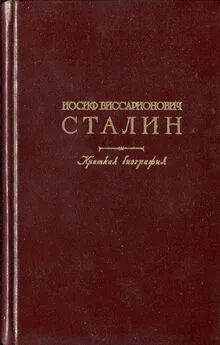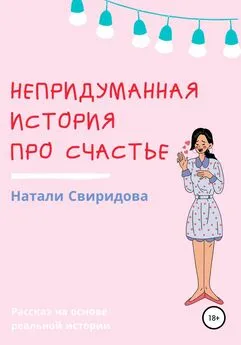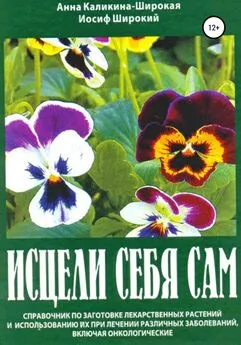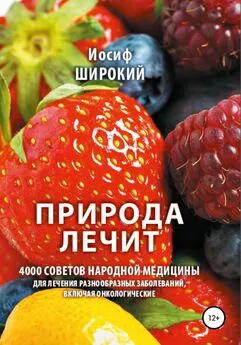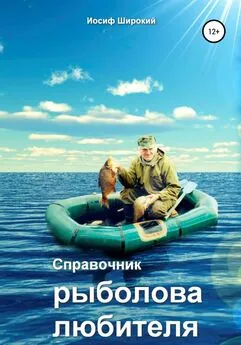Иосиф Широкий - Непридуманная биография
- Название:Непридуманная биография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Широкий - Непридуманная биография краткое содержание
Администрация сайта ЛитРес не несет ответственности за представленную информацию. Могут иметься медицинские противопоказания, необходима консультация специалиста
Непридуманная биография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
7. Интернат
После окончания четвертого класса с грамотой и свидетельством об окончании начальной школы поехал в интернат в Нижнюю Пешу. Вот там-то я добрался до чтения, потому что никто не мешал. Те первые книги, прочитанные мною в Волонге («Георгий Саакадзе», «Иван Грозный», «Суворов», «Даурия», книги Джека Лондона и другие), останутся в памяти на всю жизнь.
В интернате о хлебе насущном думать было не надо. Худо– бедно кормили три раза в день, а плюс к этому еще и булочка в большую перемену. Душа болела о младших братьях, о маме. Все думалось, как они там. В интернате я учился хуже, чем дома. Особенно трудно мне давался немецкий язык, да и по русскому выше тройки я не получал. На учебу не было времени. Даже домашние задания выполнял на перемене, сколько успею. После школы меня ждала работа. Кому-то дров напилить, наколоть и в костер уложить. И туалеты чистил. До боли в ногтях и пальцах теребил перо с куропаток. Но самым любимым моим занятием уже тогда было общение с природой. С сентября и до заморозков ловил в капканы кротов и сдавал в заготпункт. За одну шкурку первого сорта давали 25 копеек. Удавалось поймать до десяти кротов за один выход. Но как я ни старался, первого сорта никак не получалось. Процесс поимки крота очень интересен. Капканы я ставил там, где была свежая земля у норы. По ходу норы вырывал широкое отверстие, ставил капкан вплотную у самой норы, настраивал его так, чтобы он сработал от малейшего прикосновения. Затем очень осторожно зарывал его этой же землей. Вскоре приходил крот, чтобы зарыть открытый выход норы, и попадался. Тут же, пока он теплый, осторожно, чтобы не повредить шкурку, снимал ее. В интернате кровати были железные, лежанка из досок. На эти доски вверх мездрой, вниз мехом прибивал в обтянутом виде шкурки для сушки в надежде, что из-под меня их не украдут менее удачливые, ленивые и завистливые интернатские ребята. Хотя и это не всегда срабатывало. То ли на перемене из другого класса, а бывало, и ночью шкурки, чаще полностью высохшие, готовые к сдаче, исчезали. До слез было обидно! Видно, в крови у нас, русских, воровство.
Зимой силками ловил куропаток. Для этого приходилось часто проверять ловушки. Если этого не делать, на месте лова можно увидеть только перья и следы горностая или лисицы. За куропатку, зайца, тем более за горностая платили по тем временам неплохо. На эти деньги я сам одевался, да еще и домой посылал.
8. Приключение в весенние каникулы
Однажды по какой-то причине в весенние каникулы за нами из Волонги не приехали ни лошади, ни олени, как это было обычно. А домой очень хотелось! Тогда я решил идти один на лыжах. А это 20 километров до поселка Белужье, 20 до Прещатинницы и еще 20 до Волонги. Солнце припекало, но снег еще не таял. По наезженной дороге путь был короче, но дорога неровная. Решил идти по реке Пеше. Снег был твердый, ровный, идти легко. Прошел уже больше половины пути. Впереди меня ждал узкий, густо заросший ивняком островок длиной до километра. Уже почти миновав его, я услышал какой-то треск. Подумав, что заросли сейчас закончатся, и я увижу попутчика, с которым дальнейший путь будет веселее, я прибавил шагу. Но неожиданно увидел большую серую собаку. Я остановился. Собака тоже остановилась, присела на задние лапы, подняла голову вверх и взвыла. Я отродясь не видел таких больших собак. Но в интернате слышал разговор о том, что в Белужье райрыбинспектор Бурков привез немецкую овчарку из Архангельска на самолете. Подошел к ней поближе, а она зигзагами пятится от меня и зубы скалит. Тут меня словно током ударило! Это не собака, а волк! В момент я взобрался по отвесному ледяному берегу на гору, потеряв при этом одну лыжную палку. Откуда только такая прыть взялась! Я удирал от волка, а волк в это же самое время удирал от меня.
Отошел я от потрясения, лишь только когда пришел наконец в Белужье и остановился у С. Д. Прелухина. Ему и рассказал об этой встрече. До Волонги (40 километров) меня увезли на почтовой лошади. После этого боялся идти дальше один.
Десять дней каникул пролетели незаметно, и я с попутчиками вернулся в интернат. Но на второй после каникул день объявили карантин – началась эпидемия сыпного тифа. Больница быстро переполнилась, болели в основном дети. Под больничные палаты пришлось использовать классы в школе. Тогда многие воспитанники интерната и жители поселка переболели тифом. Меня эта участь миновала. Учиться начали лишь после снятия карантина. Но вскоре я все же попал в больницу: простыл, купаясь по ночам в майне (длинной проруби во льду, где полощут белье) с некоторыми смельчаками. Мне поставили диагноз – экссудативный плеврит. Откачали литр жидкости. С тех пор прошло 65 лет, но я и сейчас с благодарностью вспоминаю врачей Павла Ивановича Рехачева и его жену Софью Тимофеевну. Про таких говорят «врачи от бога». В 1977 году, когда меня со страшнейшими почечными коликами на самолете из Котласа доставили в областную больницу, я вновь встретился с Павлом Ивановичем. Он тогда был главным хирургом области.
После болезни я восстанавливался быстро. А когда окончил пятый класс, появилась необходимость заготовки дров на зиму и сена для коровы. Мамин знакомый дядя Саша взялся за это дело и прихватил меня с собой, как он выразился, «для веселья». Путь предстоял долгий – на 7-10 дней. Много с собой не унесешь. Собирались под контролем дяди. Я, разузнав предварительно, есть ли там, куда мы направляемся, рыба, захватил с собой удочку. Взял недавно появившийся у меня старенький 20-го калибра «дробовик». Я уже успел подстрелить из него много куропаток и уток.
Конец мая. Весна. Все ожило. Снег почти везде сошел. Идем. Изредка отдыхаем. Километров двадцать-тридцать мы тогда прошли по тундре. Кругом вода. Чем ближе мы подходили к речке, тем крупнее и выше встречались нам березы, а ели так и вовсе громадные. Так неожиданно мы увидели лес. Красотища необыкновенная! Вода на порогах бурлит и пенится, из-за этого шума наших голосов почти не слышно… А когда речка несет тебя на лодке, только шапку держи! Вот какое там течение. А вверх по реке пойдешь, и уходить не хочется. Лес, скалы отвесные, воздух прозрачен и чист. Можно сохатого встретить, медведя.
Начинается речка Волонга на Тиманской возвышенности. Вытекает из озера, заполненного рыбой, извиваясь голубой лентой на протяжении полутора сотен километров. Вода в ней такая прозрачная, что, пожалуй, всю рыбу пересчитать можно, а ее много, в основном семга. Десятки тонн дает маленькая, но необыкновенно красивая речка Волонга, речка-кормилица. В устье реки стоит деревня, которая также называется Волонга.
Остановились, выбрали место для шалаша с таким расчетом, чтобы вблизи было много берез. Обустроились. Познакомились с окружающей местностью. Рядом слева был узенький, метра 3-4 шириной, быстрый ручей. Через него, с берега на берег, в метре от воды, лежала поваленная громадная старая ель. Справа стоял наш шалаш, березняк, метров через 50-100 – тундра и озера, за ними река Волонга. Решили мы сперва перекусить, а после уснули, как убитые. Проснулись только поутру от щебетания птиц. Позавтракали и нашли себе работу. Дядя Саша стал рубить деревья, а я их от сучьев очищал. Когда пообедали, он мне сказал: «Своих харчей нам хватит дней на пять, на озерах должны быть утки. Может, подстрелишь на «уху»?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: