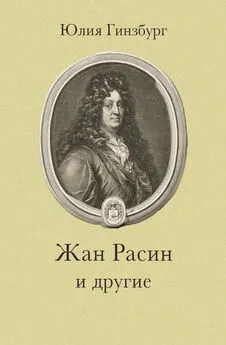Юлия Гинзбург - Жан Расин и другие
- Название:Жан Расин и другие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8242-0155-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Гинзбург - Жан Расин и другие краткое содержание
Автор книги переводчик и публицист Юлия Александровна Гинзбург (1941 2010), известная читателю по переводам «Калигулы» Камю и «Мыслей» Паскаля, «Принцессы Клевской» г-жи де Лафайет и «Дамы с камелиями» А. Дюма-сына. Книга Юлии Александровны о Расине осталась неизданной. Ее издание дань памяти замечательному человеку.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Жан Расин и другие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Около шести часов ужинали. Все происходило тут, как за обедом. Рекреация после ужина длилась до восьми часов, когда дети снова поднимались в спальни, чтобы повторить уроки на завтра. В половине девятого шли на общую молитву. На нее собирались Господа, все дети из разных спален и слуги. После молитвы каждый возвращался к себе и ложился спать. Наставник в каждой спальне при сем присутствовал, так что он ложился последним, а вставал первым.
По воскресеньям в восемь часов старший священник обучал катехизису и давал к нему разъяснения. Затем шли к мессе в приходскую церковь.
Свободное время бывало только после полудня. Его проводили за играми в саду или отправляясь на прогулку в дома, расположенные по соседству».
Такая размеренность и уединенность жизни, такая удаленность от всех соблазнов, такое заботливое наблюдение за каждым взглядом и шагом ребенка как будто точно отвечают замыслам Сен-Сирана. Но двойственность, пограничность воззрений его приверженцев сказалась в том, чему и как учили в «маленьких школах», быть может, особенно отчетливо. Ведь они должны были разрешать на деле мучительное противоречие: как быть истово верующему интеллигенту, то есть человеку, чья жизнь, с одной стороны, состоит в упражнении своих природных умственных способностей, следовательно, так или иначе в потворстве похоти познания (столь трудно отделимой от желания блеснуть, первенствовать, превзойти всех прочих – гордости житейской, похоти властвования), а с другой стороны, обязанному особенно щепетильно соотносить свою деятельность с рядом сверхприродных, сверхъестественных ценностей и с добродетелью смирения? Проблема эта особенно остра для XVII столетия, когда нехристианское сознание в разных его формах – от равнодушного скептицизма до эпатирующего вольнодумства – из умозрительной гипотезы, воображаемого оппонента множества «апологий веры» постепенно превращается во вполне ощутимую, близкую реальность, а умственный труд уже не исключительная привилегия клира, результаты же этого труда могут быть в различных отношениях с религией – не только подчиненно-служебных, но и независимых, могут ее положения перетолковывать, оспаривать или попросту не принимать в расчет.
Самая представительная фигура для той переломной поры – Декарт, современник янсенистов, в чем-то их наставник, а в чем-то совершенная им противоположность. Воспитанник иезуитов, Декарт не менее твердо, чем в Бога, верил в возможности человеческого разума и воли. Его Бог, всеблагой устроитель мироздания, отнюдь не питает презрительной враждебности к природному разуму; напротив, разум есть не только совершеннейшее создание творца, но и лучшее доказательство бытия Божия, лучшее средство познания Бога. (Не зря протестанты обвиняли Декарта в пелагианской ереси.) Безудержный рационализм Декарта, обязывающий разум отважно доходить до конца в сомнении и соглашаться лишь с тем, что может быть непреложно доказано, по рождению и осознанным целям связан с рационализмом традиционного католического богословия, а по непредвиденным последствиям – с деизмом энциклопедистов. Непредвиденным, но едва ли случайным: у иезуитов учился и Вольтер…
Распространение и признание декартовских идей приходится на годы более поздние, последнюю четверть XVII столетия. Для янсенистов же младшего поколения – Великого Арно, Николя, сестры Паскаля Жаклины (во многом и для самого Паскаля, но это тема особая) – картезианство было просто выражением, духом и воздухом времени, в котором они жили, почти независимо от того, как они относились собственно к Декарту. И потому, как ни бичевали они похоть познания, как ни ополчались против природной мудрости, как ни тосковали о просветленной простоте раннего досхоластического христианства, все же по самому складу ума, способу рассуждения, взгляду на любой предмет, отвлеченный или вещественный, они могли быть только теми, кем были, – образованными французами середины XVII века, то есть картезианцами.
И конечно, ни в чем это не сказывалось так наглядно, как в разработанных Пор-Роялем методах обучения, взывавших к здравому смыслу и враждебных косному педантству. Одно из главных новшеств состояло в том, что детей учили грамоте по-французски, а не по-латыни, пока еще им незнакомой, как поступали во всех других школах (на что уходило три-четыре года!). Само обучение чтению велось по способу, предложенному Паскалем. Известно, что для детей часто оказывается труден переход от чтения отдельных букв к целому слову; они знают, к примеру, что этот значок – «дэ», этот – «о», а этот – «эм»; почему же все вместе читается не «дэоэм», а «дом»? Паскаль предложил называть детям по отдельности только гласные, а согласные – лишь в различных сочетаниях с гласными: не «д» и «м» сами по себе, а сразу «да» или «ум». Такая метода как будто себя оправдывала.
Первыми книгами для чтения служили обычно в «маленьких школах» добротные французские переводы тщательно отобранных отрывков из античных авторов. Затем переходили к самой латыни – основе тогдашнего образования. И здесь все шло не совсем обычным путем. Господа из Пор-Рояля старались «оживить» для своих учеников мертвый латинский язык, приблизить его постижение к тому, как происходит «в природе» постижение родного языка – вот и окошко для гонимой в дверь природы. Для этого латинские тексты не переводились письменно, а сначала читались вслух и устно же переводились, чем создавалась иллюзия естественной латинской речи. Ведь и «в природе» дети сначала воспринимают язык со слуха, а уж потом учатся на нем писать. И сложные правила латинской грамматики, от которых, увы, никуда не денешься, усваивались не зазубриванием в отрыве от текстов, а по большей части из примеров – приблизительно так, как теперь обучают живым языкам.
Затем наставал черед древнегреческого. Уже само внимание к этому предмету было для Франции в диковинку по тем временам: греческих авторов если и читали, то в переводах, по большей части латинских. И обучали греческому, когда это вообще случалось, через посредство латыни, что еще осложняло дело. В Пор-Рояле же греческому начинали учить почти одновременно с латинским и с помощью объяснений, переводов и толкований по-французски, а не по-латыни. Здесь справедливо полагали, что главная трудность древнегреческого языка заключается в его лексике и морфологии, а не в синтаксисе, как у латыни; заучивать же слова и формы легче в раннем возрасте, тогда как синтаксические сложности нужно преодолевать в сочинениях, то есть в упражнениях для старших. Такая разница в отношении к греческому языку не случайна: хороший эллинист получал прямой доступ к сочинениям многих отцов Церкви, что для янсенистов было весьма желательно, а иезуитами не поощрялось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: