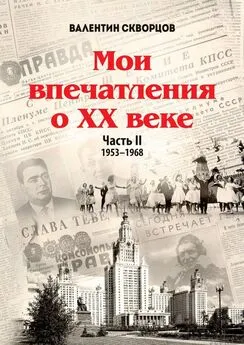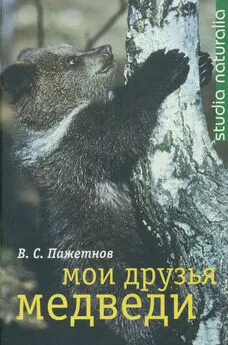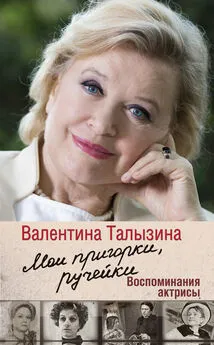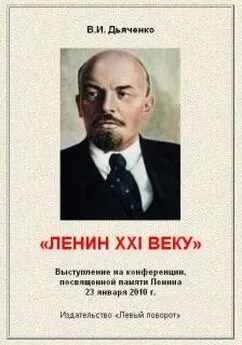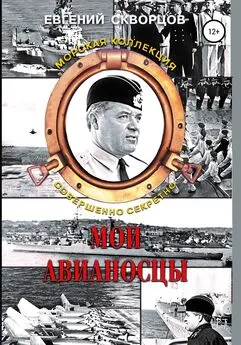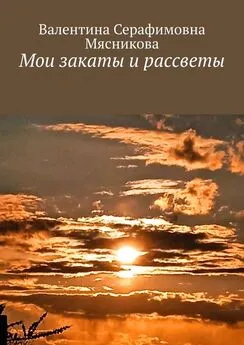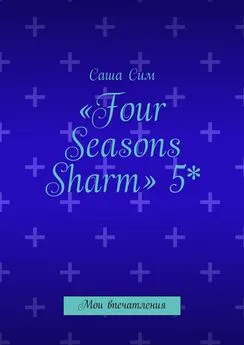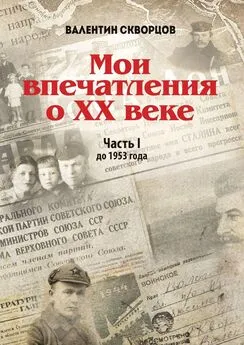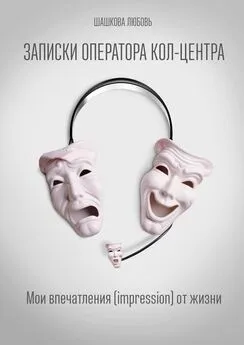Валентин Скворцов - Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968
- Название:Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005124449
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Скворцов - Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968 краткое содержание
Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конце ноября в нашем театре произошло важное событие, вошедшее в историю университетского театра. К нам приехал из Ленинграда и сыграл с нами в двух спектаклях Николай Черкасов. В это время Черкасов, после ролей Александра Невского и Ивана Грозного, а также фильмов «Депутат Балтики», «Дети капитана Гранта», «Весна» и многих других, считался чуть ли не главным советским актером. Он был лауреатом пяти Сталинских премий, депутатом Верховного Совета и имел кучу всяких других регалий. Так что его участие в нашем спектакле было событием не только для университета, но и для всей театральной Москвы. На спектакль было трудно попасть. Я провел маму и несколько своих друзей через сцену. Кстати, до того как стать признанным и обласканным властью актером, в 20-е годы Черкасов был замечательным комиком. Я когда-то позже видел отрывок из какого-то фильма, где он участвует в уморительном пародийном танце «Чарли Чаплин, Пат и Паташон». Утром в день спектакля мы большой делегацией, включая Петрова и Катаняна, встречали Черкасова в аэропорту прямо на летном поле. У меня сохранился снимок, который называется «Над чемоданом Черкасова». Нам был поручено довезти этот чемодан до университета в нашем университетском автобусе, а Черкасов уехал в машине отдельно от своего чемодана. С Черкасовым приехал и тоже участвовал в спектакле Бруно Фрейндлих, отец тогда еще никому не известной Алисы Фрейндлих. Во многих газетах тогда появились фотографии с этого спектакля и наши групповые снимки с Черкасовым и Фрейндлих за кулисами после спектакля. Есть снимок, на котором два Маяковских – наш Юра и Черкасов – сердито смотрят друг на друга. Наш Юра явно больше похож на Маяковского.
После «Маяковского» Петров начал репетировать с нами комедию югославского драматурга Нушича «Доктор философии». В этом спектакле Виталик играл Животу, а я брата его жены Благое. Мама говорила, что в гриме старика я напоминаю ей ее отца, моего дедушку Диму. Эта роль уже была намного богаче и интереснее моего Зайцева, больше простора для окраски всяких деталей. Репетировали мы довольно долго, и премьера состоялась лишь на следующий год, когда я был уже на четвертом курсе.

Два Маяковских: Юрий Овчинников и Николай Черкасов, 1955 год
Кроме спектаклей я часто выступал в разных концертах со стихами Маяковского или с баснями. К факультетскому вечеру, посвященному годовщине Октября, я выучил и в Актовом зале с удовольствием прочитал свой любимый отрывок из «Хорошо»: «Дул как всегда Октябрь ветрами…». Мне очень нравилось это поэтичное описание смены эпох под аккомпанемент октябрьского ветра. После этого выступления уже редкий факультетский концерт или смотр самодеятельности обходился без моего участия. Приходилось ездить на всякие шефские концерты. Был, например, концерт для строителей в Черемушках. Из окна моей комнаты в общежитии была видна эта стройка в районе пересечения будущих Ленинского и Ломоносовского проспектов. Меня стали приглашать и на университетские концерты. Однажды я вел концерт на вечере иностранных студентов и выступал на нем. В это время иностранцы у нас были только из Китая и из так называемых стран народной демократии Восточной Европы, которые весной 1955 года вошли в состав Варшавского договора, заключенного в противовес блоку НАТО. Лишь в следующем учебном году, когда у СССР началась дружба с египетским президентом Насером, у нас появились египтяне. А в том концерте для иностранцев выступал также наш студент-первокурсник из Польши Владислав Турский, сын ректора Варшавского университета, в будущем известный польский астроном и информатик. Вскоре, после событий в Венгрии и Польше, он примет активное участие в начавшихся в университете студенческих дискуссиях и разных собраниях, выступая с резким осуждением вмешательства Советского Союза в дела этих стран.
Комсомольскими делами на курсе мне все-таки приходилось временами заниматься. Мне нравилось, что в комсомольское бюро нашего потока вошли сильные математики, включая Диму Аносова, Юру Тюрина, Володю Лина. Позднее членом бюро стал и Боря Митягин. Кстати, несколько неожиданно для меня мы с Димой обычно сходились в довольно непримиримой оценке каких-нибудь нарушений комсомольцами дисциплины, когда на бюро или на собраниях рассматривались персональные дела. Чаще всего дело возникало из-за какого-нибудь нарушения в общежитии, например, из-за картежной игры или пьянки. Однажды даже встал вопрос об исключении из комсомола. Речь шла об Олеге Мантурове. Не помню, в чем он провинился. Кажется, был какой-то конфликт с вахтерами или сотрудниками общежития, и Олег кого-то ударил. На собрании группы его исключили. Особенно решительно против него были настроены девочки, возмущавшиеся его вызывающей грубостью по отношению к однокурсникам. Мне он тоже казался неприятной личностью. На заседании бюро потока я, Дима и Юра Тюрин убедили бюро на предстоящем потоковом собрании поддержать решение группы. Партбюро факультета, которому было известно об этом скандале, тоже настаивало на исключении. Но на собрании, которое мне поручили вести, Олега, насколько я помню, все-таки не исключили, а вынесли строгий выговор. Все выступавшие его строго критиковали, и сам он каялся и осуждал свое поведение. В то время распространен был такой способ избежать большого наказания. Часто провинившийся не только сам занимался самобичеванием, но и просил своих друзей покритиковать его. Тогда у партийного начальства, отвечавшего за комсомол, было основание считать, что комсомольский коллектив все-таки «проявил принципиальность», осудил нарушение, ну а по поводу строгости взыскания могли быть разные мнения. Такие фокусы проходили, когда речь шла о бытовых нарушениях. Но когда дело касалось политики или идеологии, то тут уже снисходительность не допускалась, поскольку требование строго наказать часто исходило откуда-нибудь сверху и само местное партийное или комсомольское руководство было уже просто исполнителем и обязано было приложить все усилия, чтобы выполнить указание. Кстати, Олег в будущем стал хорошим математиком, и меня потом немного мучила совесть из-за моего, возможно, не вполне справедливого отношения к нему.
Еще одним постоянным нарушителем всяких стандартных норм у нас на курсе был Игорь Красичков. При этом он вполне открыто, но без вызова, беззлобно, с какой-то спокойной уверенностью высказывал скептицизм по поводу этих норм. Он не ходил ни на какие воскресники, у него постоянно были какие-то проблемы с выполнением заданий к занятиям по марксизму-ленинизму. Но ему я, в отличие от Олега, очень симпатизировал. Мы с ним как-то вместе оказались в фойе клуба во время танцев. Рядом оказались какие-то модные девицы вызывающего вида. Он проворчал: «Я бы таких штрафовал». Потом сказал: «Надо бы танцевать научиться». Я предложил: «Могу давать уроки танцев». Он воспринял довольно серьезно: «Правда? Давай я к тебе как-нибудь с патефончиком зайду». Меня привлекало в нем прежде всего то, что он хорошо знал английский. Когда у нас в общежитии появились студенты из Египта, я его привлек к организации встречи с ними у нас в гостиной, и он с удовольствием согласился. Он с ними и позднее много общался, удивлялся их фанатичной религиозности. Однажды сказал мне: «Меня всегда интересовало: когда Эйзенхауэер заканчивает каждую свою речь упоминанием Бога, он в самом деле выражает свою глубокую веру или просто соблюдает принятую форму?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: