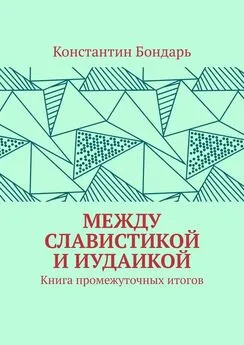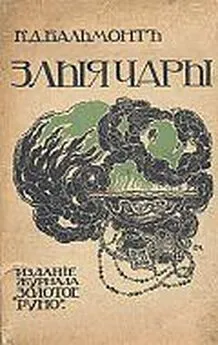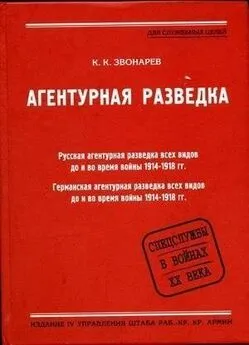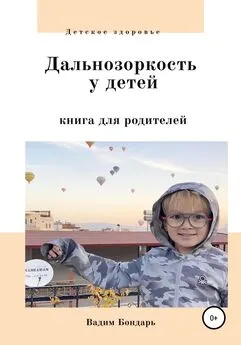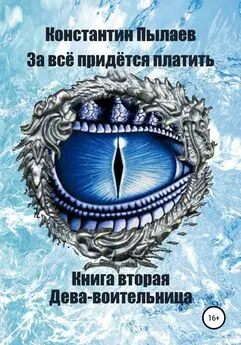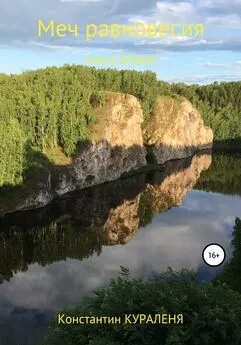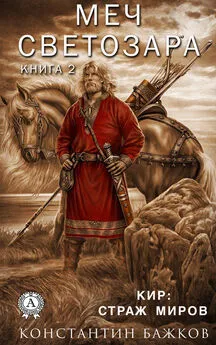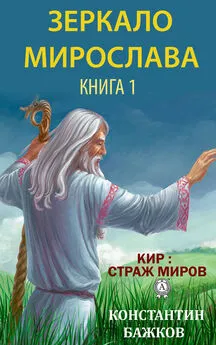Константин Бондарь - МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов
- Название:МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005151292
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Бондарь - МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов краткое содержание
МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Игорь Лосиевский,
заведующий научно-исследовательским отделом документоведения, коллекций редких изданий и рукописей Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко, профессор Харьковской государственной академии культуры, доктор филологических наук
К истокам призвания. Прогулки с дедом
Однажды, – рассказывала в одном из интервью 90-х годов Бел Кауфман, – я написала письмо своему дедушке. Оно начиналось так:
«Дорогой дедушка! Я хочу рассказать тебе о том, что произошло со мной и с тобой с тех пор, как ты умер…»
Пример Бел Кауфман вдохновляет меня давно. Ей было пять лет, когда не стало ее деда Шолом-Алейхема, но всю жизнь он незримо сопровождал ее. Мне посчастливилось прожить с дедом намного дольше, но эта книга, пожалуй, – тоже послание, адресованное дедушке с высоты прожитого почти полувека, в котором я хотел бы рассказать ему о том, что со мной произошло за эти годы. «Я – это мой дед», – привык я кратко описывать то исключительное влияние, которое он на меня оказал. Почему так сложилось? Я рос в полной, большой семье, где были родители, две бабушки, которых я очень любил, тетя. И все-таки дед…
Михаил Бондарь – филолог, фронтовик, учитель, библиофил, проживший три четверти ХХ века, стал тем человеком, который определил мою взрослую жизнь. Он был сыном своей эпохи, выжившим в страшные времена. Первым в своем роду он стал интеллигентом, и исповедовал он только одну веру – в человека. По специальности дед был филологом, но прожил свою жизнь скорее как историк, потому что преподавал общественные науки, активно интересовался прошлым и современной ему политикой, окружающим миром, собирал книги и следил за прессой. При этом он не был ни фанатиком, ни догматиком, а жизнелюбие и неповтиримый юмор подарили ему лет пятнадцать в борьбе с тяжелой болезнью. И сегодня у меня нет сомнений, что общение с дедушкой было не только уроком стоического отношения к жизни, но и прививкой против больших бед – агрессивного невежества, самодовольной ограниченности и житейской мелочности.
Представим, например, такую картину: пожилой мужчина и мальчик неспешно уходят вдаль по парковой аллее. Они о чем-то негромко и неторопливо беседуют. Мужчина изредка останавливается, чтобы закончить мысль или привести пример, пошутить или припомнить забавный эпизод. «Кто знает?» – задумчиво спрашивает он себя при этом. На самом деле остановки нужны не только для этого: после инфаркта ему приходится справляться с повышенной усталостью и бросать под язык таблетку нитроглицерина. Так они могут гулять пару часов, и общение их не утомляет. О чем они говорят? Например, перечисляют великих писателей, вспоминают римских или русских императоров, политиков и деятелей прошлого, полководцев и путешественников, мечтают о будущем. И сегодня я частенько ловлю себя на мысли, что о многих вещах впервые услышал от деда. Атласы, энциклопедии, инструменты; имена философов, поэтов, киноактеров и множество других вещей, всплывая в памяти, возвращают меня к временам этих прогулок. В наших разговорах мелькает Харьков прошлых десятилетий, довоенный Донбасс или совсем уж мифологическое Волощино, откуда подростком дед уехал навсегда. Имена писателей произносятся так, как если бы они были нашими знакомыми, а люди из минувших эпох все еще оказывают воздействие на нашу жизнь (к слову, воспоминания всегда были у деда настольными книгами). В этих беседах могло быть все, что угодно, но только не злословие и не сплетни. Негодуя на дураков или подлецов, дед не опускался до ругани, хотя крепкое словцо любил. Столь же нетерпим он был к болтунам и пустословам, а недоразумение или обиду обычно обращал в шутку, приговаривая: «Извини, если что не так!» Была у него и присказка на прощание: «Если что, отбей телеграмму!»
Я всегда воспринимал своего деда как человека пожилого. И действительно, он рано начал стареть, а после первого инфаркта стал стареть стремительно. Ко времени, когда наше общение стало значимым фактом моей биографии, активная жизнь была у него уже в прошлом. Возможно, это было одной из причин пристального и вдумчивого внимания деда ко мне. Я родился вскоре после его 50-летия, воспринятого им как жизненный пик, с которого начинается спуск вниз (к этому сквозному для его мировоззрения образу он постоянно возвращался), и стал приложением его учительского, читательского и житейского опыта.
Дедушка появился на свет в 1922 г. в семье простого сельского труженика. Он был старшим из пяти детей Израиля Бондаря и его жены Цили, живших в селе Волощино Кривоозëрского района теперешней Николаевской области Украины (бывший Балтский уезд Подольской губернии). Однако, рожденный в глубинке, дед не был провинциалом. И, сколько я помню, он всегда придавал значение дате своего рождения: из его поколения немногие вернулись с войны, и дед считал свою послевоенную жизнь подарком. О ком-то (например, о любимом поэте Юрии Левитанском) дед мог сказать: «Он моего года», и эта лаконичная характеристика приобретала особую многозначность.
В раннюю пору детства дедушка как будто не входил в мой мир – может быть, оттого, что тот был женским? Бабушка, ее старшая сестра – моя няня, вторая бабушка, тетя и мама практически полностью заполняли освоенный ребенком мир. До общения с дедом надо было дорасти, потому что оно требовало некоторой самостоятельности и зрелости. Оно было партнерским, а не покровительственным: дед предлагал паритет, приобщая к теме, задавая вопросы или вынося суждения. Он очерчивал круг, в котором надо было сориентироваться, предложить ответ, возможное решение. Мышление на критических точках, приглашение к сотрудничеству оставляло радостное чувство выхода за пределы повседневности. Это не происходило автоматически: за редкостное ощущение надо было бороться, пробиваясь к нему сквозь привычную лень, детскую наивность и беспечность.
Вот, пожалуй, одно из первых воспоминаний – книжное. Стройные и высокие ряды открытых книжных полок уходят под потолок. Они плотно уставлены. Корешки книг разноцветные, некоторые посверкивают золотом в проходящем свете. Книги тонкие и толстые, высокие и совсем небольшие. Перед книгами на нескольких полках стоят фотографии. Это комната дедушки и бабушки, в которой я не живу, но куда прихожу в гости довольно часто. Дедушка – хранитель и знаток всех этих книжных богатств. Он знает им и счет, и ранжир. Здесь есть книги, которые я могу просматривать и даже читать. Есть и такие, до которых я не достаю, да так и не узнаю потом, что же там внутри. Я знаю, что эти книги покупаются и собираются, чтобы когда-нибудь достаться мне. В доме деда и бабушки начали собирать книги с 50-х годов, и эта миссия не прекращалась до начала 90-х, когда найти приличную книгу стало трудно, а цены на них взлетели. До расцвета современной книжной торговли дедушка не дожил, и бóльшая часть его книжного собрания была родом из сравнительно благополучных 70—80-х годов. Он иногда говорил, что в годы «книжного бума» покупалось все, что выходило в приличной обложке на русском языке. Что делать, эпоха дефицита давала о себе знать даже в жизни библиофилов. С некоторыми книгами связаны особые воспоминания. Например, иногда дед произносил знаменитую достоевскую фразу: «А не почитать ли нам Гоголя, господа?», и за этим следовало неизменное совместное чтение нескольких страниц из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Часто мы читали отрывки из «Жизни двенадцати цезарей» Светония или из современной книги Е. Федоровой «Императорский Рим в лицах». Таким же постоянным чтением по искусству был сборник «Пятьдесят биографий мастеров западноевропейского искусства» с черно-белыми иллюстрациями. На ночном столике возле дедовой кровати постоянно лежали трехтомник «Опытов» Монтеня, «Разговоры с Гëте» Эккермана, книжечка эссе Андре Моруа, «Мышеловка» Агаты Кристи. Дед очень любил и уважал издания серии «Литературные памятники», и у нас их было два-три десятка – античные авторы, несколько средневековых сочинений, как, например, «История государства инков», рассказы Фолкнера, письма Томаса Манна и другие. Затем, уже самостоятельно, я приобрел у букинистов еще несколько томов. Часть из них и теперь со мной – древнерусские памятники, книги, подготовленные моим научным руководителем, профессором Л. Г. Фризманом («Стихотворения» Баратынского, «Северные цветы на 1832 год», «Думы» Рылеева, «Европеец» Киреевского). В конце концов, я тоже стал одним из авторов серии: вместе с Леонидом Генриховичем мы подготовили «Марфу, Посадницу Новгородскую» М. Погодина. Интересно, что бы сказал о ней дед?..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: