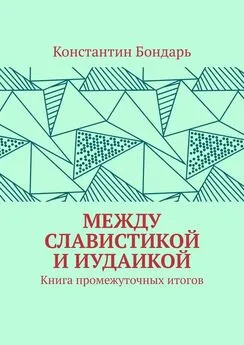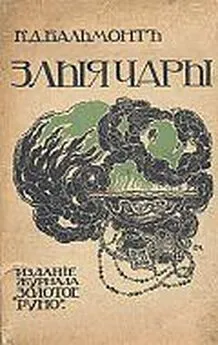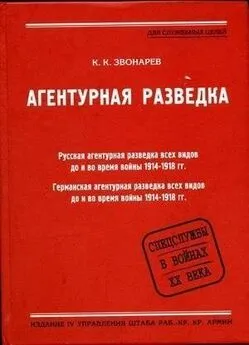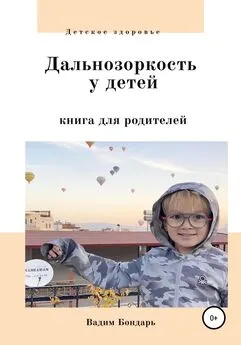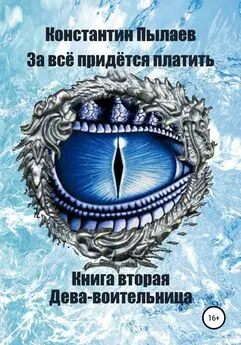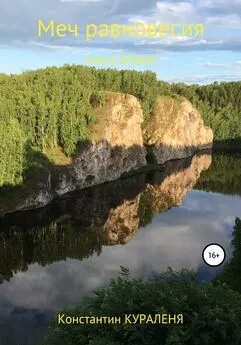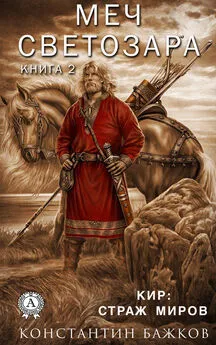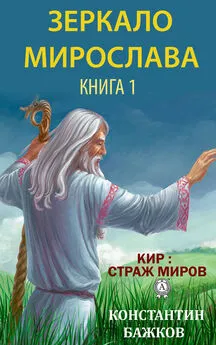Константин Бондарь - МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов
- Название:МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005151292
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Бондарь - МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов краткое содержание
МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Например, функции и расстановка персонажей «Руслана и Людмилы» создают композицию «двухходовой» волшебной сказки, по В. Я. Проппу. При этом отступление от традиционной схемы заключается в обособлении линии Людмилы, образующей «сказку в сказке» и заканчивающейся в рамках истории Руслана (ср. у Проппа: « случаев, когда сказка следит как за искателем, так и за пострадавшим, в нашем материале нет »). Происходит подчинение разнонаправленных элементов сказочного повествования замыслу поэмы. Другой пример. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» содержит иное отступление – соединение двух рассказов: истории героя-искателя и истории преследуемой мачехой царевны, причем первая существенно перерабатывается. В ней королевич Елисей не влюбляется в случайно увиденную мертвую царевну, подобно типичному герою-искателю, а целенаправленно разыскивает невесту.
«Пиковая дама», написанная в том же 1833 г., что и «Сказка о мертвой царевне…», « целиком принадлежит своей литературной эпохе. Ее действие совершается в исторически конкретном, а не в условно-сказочном времени и пространстве ». Тем не менее, здесь также нарушается знакомый сказке принцип, названный исследователями «хронологической несовместимостью»: история Лизаветы Ивановны истолковывается в духе сказки о бедной падчерице, образуя самостоятельную линию и развиваясь по своей логике – от безвестности и униженности к обретению жениха и богатства. В «Пиковой даме» обособление происходит даже дважды: « маленькой волшебной сказкой » Н. Н. Петрунина называет и анекдот Томского, действие которого развивается от осознания ущерба к его устранению – «ликвидации беды» – с помощью «дарителя» и «чудесного средства». Можно говорить о сопоставлении персонажей повести со сказочными: графиня – хранительница тайны – выступает как невольный «даритель», Чекалинский – как «антагонист», Лизавета Ивановна – как «помощник». Но существенные изменения претерпевает каждый фрагмент реконструируемого сказочного плана «Пиковой дамы»: «герой» (Германн квалифицируется не как главный, положительный, а как ложный герой сказки, которому не полагается сказочное благополучие вследствие нарушения им сказочной этики), «даритель» (в отличие от героя сказки, Германн знает о «дарителе» и ищет встречи с ним; кроме того, «даритель» совершает свое действие вынужденно), «предварительное испытание» (отчасти сливается с «поединком» – встречей за карточным столом), «помощник» (является одновременно «героем» «встроенной» сказки). И особенно важно отметить «волшебное средство». Волшебная сказка, вообще говоря, знает такой сюжет, как «пиковый/червонный валет», в котором герой находит игральную карту, затем из нее выходят духи, с помощью которых он богатеет, прельщает подарками невесту, женится. Помимо этого, одна из возможных форм сказочного боя – игра и карты. У Пушкина же тема трех карт вписана в традицию романтической фантастики и современной ему философии, литературы и общественной жизни.
Анализируя метамотив «чуда» согласно с данными С. Ю. Неклюдова, отметим следующие условия. «Чудо» – спутник и частое следствие разрыва в цепочке последовательных событий, образующих сюжет сказки, часто – в ситуации дороги, особенно, когда цель поездки не определена. Согласно В. Я. Проппу, фантастичность волшебной сказки подготовлена случайностью, появляющейся в самый напряженный момент для героя в ходе действия – момент после выхода из дома. На наш взгляд, все эти условия содержатся в анекдоте Томского – «маленькой волшебной сказке»: обрыв событийной цепочки («бабушка не знала, что делать»); появление Сен-Жермена, который оказывается «чудесным» для героини, хотя оценка его дана в словах рассказчика («вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много « чудесного », и рядом: «старый чудак » ). Заметим, что обычно «слов семантического поля «чуда» в тексте мало», частотность их появления невелика, и потому отмеченное словоупотребление достаточно красноречиво.
После появления Сен-Жермена, предлагающего взамен тривиального выхода «другое средство», сюжет развивается связно и последовательно: игра у королевы, выбор трех карт, «чистый» выигрыш – словом, «чудо». Представлена и роль «чуда» как «ключа, вводящего слушателя в тональность повествования»:
« – Случай! – сказал один из гостей. – Сказка! – заметил Германн. – Может статься, порошковые карты? – подхватил третий ».
Услышанная история воспринимается Германном без присущей сказке «установки на вымысел», он ожидает «чудо», «программирует» события с расчетом на «чудо», нарушая композиционное условие непредсказуемости. Мотив ожидания осложняется сомнением в действенности «волшебного средства», что в сказке невозможно. Это сомнение как будто провоцирует отказ от попытки добыть «волшебное средство» (« расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты …»), но уже следующий фрагмент текста показывает развитие действия по описанной сказочной закономерности: «бродя по Петербургу», Германн неожиданно оказывается перед домом графини, останавливается в нерешительности и узнает о том, кто хозяйка дома. «Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности…»
Здесь также обнаруживаются характерные лексические сигналы и повествовательные признаки. Легко увидеть в то же время несоответствие литературного и сказочного решений. Выдержав один из этапов «предварительного испытания», заполучив «помощника» и встретившись с «дарителем», Германн обнаруживает, что «даритель» не обладает «волшебным средством» (« Это была шутка, клянусь вам !»). Так видоизменяется существенное звено прототипа. Бой с «антагонистом» закономерно ведет к поражению Германна: ведь волшебная помощь не заслужена им, хотя «волшебное средство» действует безотказно и до конца, как положено в сказке. Сцены с фантастическим колоритом – явление призрака, усмешка карточной дамы – не предполагают, скорее всего, сказочных параллелей и обусловлены литературной традицией.
Итак, иные особенности волшебно-сказочной поэтики усвоены и сохранены Пушкиным («чудо» как метамотив повествовательной структуры), другие изменены (однонаправленность времени, монотонность сюжетной линии, функции персонажей и ключевые ситуации). Видоизменение или нарушение сказочного канона имело место в различные периоды творчества Пушкина и в разных жанрах под влиянием « непрерывного усложнения действительности и форм ее осмысления ».
Пожалуй, не будет преувеличением утверждение, что изменение сказочных констант, и прежде всего самой устойчивой – композиции – происходит за счет «экспансии» литературной стихии, в частности, разного рода игровых приемов. Например, хорошо известные романтические темы и образы вводятся в повествование и пародируются. Пародийный подтекст ощущается также в эпизодах, соотнесенных со сказочным планом «Пиковой дамы»: сцены с Лизаветой Ивановной (воображаемая страсть оборачивается равнодушием), графиней (явление призрака снабжено долей комизма).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: