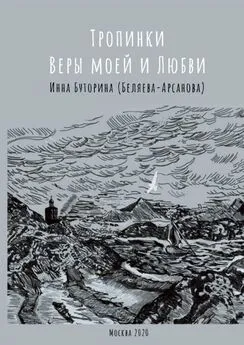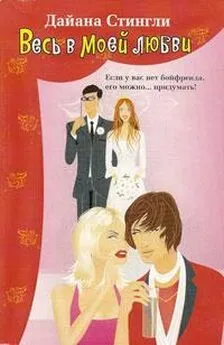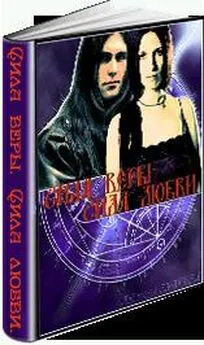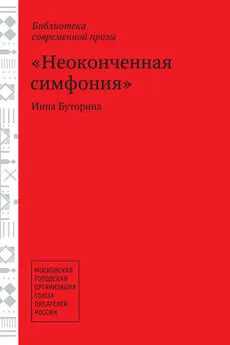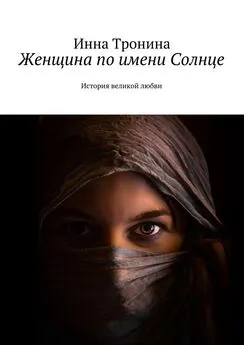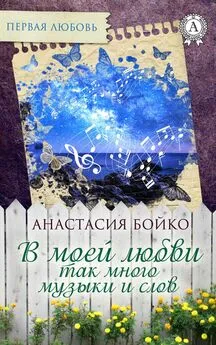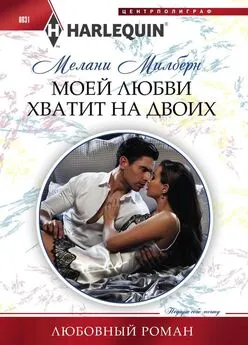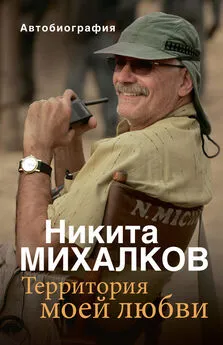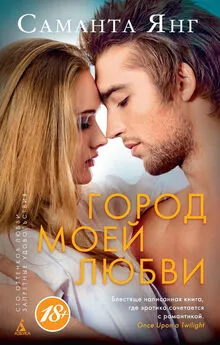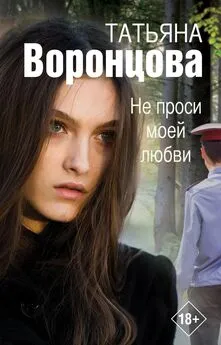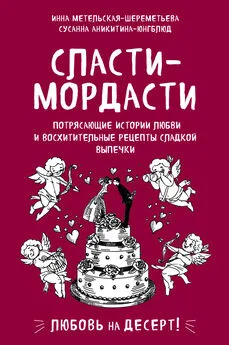Инна Буторина (Беляева-Арсанова) - Тропинки веры моей и любви
- Название:Тропинки веры моей и любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005074591
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Буторина (Беляева-Арсанова) - Тропинки веры моей и любви краткое содержание
Тропинки веры моей и любви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Знала, что Белозерск – это старинный русский город, где жизнь идет в замедленном темпе и еще многое пропитано духом патриархального уклада, но совсем не предполагала, как много можно добавить к этим скудным черточкам. Очень кстати прислали мне недавно из Белозерска замечательную книжку светлой памяти безвременно ушедшего Константина Ивановича Козлова под дорогим названием «Белозерск» (спасибо Татьяне Валерьевне Богомоловой) 1 1 Козлов К. И. Белозерск. Описание города, его храмов и достопамятностей. – М.: Северный паломник, 2007.
. В ней всё – и научность, и обширная информативность, и одновременно простота изложения, а главное – искренняя, бескорыстная любовь, открытая и щедрая – ко всему, о чем он пишет 2 2 Вниманию молодежи! Козлов Константин Иванович (1962—1998) – основатель и первый руководитель Добровольческого объединения молодежи «Реставрос» при Патриаршем Центре духовного развития детей и молодежи Московского Свято-Данилова монастыря. Руководил работами добровольных помощников реставраторов в Белозерье: городах Белозерске и Кириллове, сёлах Ферапонтово, Горицы, Талицы.
. Приятно было обнаружить, что мы с автором полностью сошлись во мнении по одному из очень важных моментов: «…Белозерск встречает нас с южной стороны аэродромом, автобазой, промышленными предприятиями – в общем въезжаем в город с „черного хода“», – констатирует с легкой досадой автор. Впиваюсь с надеждой дальше. Много вынашивала всяческих возможных водных путей пробраться в Белое озеро и пристать у канала к самому Белозерску. Издревле это был единственный путь – водой. В XIV веке как можно было еще доставляться? Впрочем, святые наши подвижники, птенцы гнезда преподобного Сергия Радонежского, Кирилл, Ферапонт и их последователи шли и водой, и льдом, и лесом… А я, грешная, если уж не на пароходике обыкновенном, пассажирском («Бабуля, ты откуда свалилась?» – вопрошали меня служащие речники, – теперь нет таких) тешилась найти лазейку на какую-нибудь баржу потрудиться там. Больших лет моих не боялась, а вот бойкости не хватало. Ну, а предлагаемые новые транспортные средства – фешенебельные, многопалубные туристские теплоходы не подходят ни сердцу, ни кошельку паломника).
И вот читаю далее у Константина Козлова: «Давайте войдем в Белозерск через «парадный подъезд» – через Белое озеро, тем более что на этом пути нас ожидает много прекрасного». Вот оно! Через озеро! Но внимание: … «Впрочем, и печального тоже…». Что имел в виду Константин Иванович под печальным? В последние несколько лет лишены мы и жалкого подобия прежних водных транспортных средств для простых пассажиров: убрали «Метеоры», и даже причал демонтировали. Кому ни выражу свои недоумения, огорчения, все вокруг говорят одно и то же: нерентабельно. Вот и в комментарии К. Лобачева к этой книжке тут же читаем: «К сожалению, торжественный вход в Белозерск через «парадный подъезд» с начала нового века стал недоступен – знаменитые метеоры отменили за убыточность (ладно хоть К. Козлов этого уже не увидел). Так значит, не так уж я наивна?
«Первая встреча с Белозерьем – любовь с первого взгляда, – читаем у К.И.Козлова, – потому что невозможно не полюбить этот своеобразный северный край, эту святую землю, это озеро – бескрайнее и величавое, то ласково-голубое, то тяжело-свинцовое в белых барашках. Нельзя не поддаться суровому очарованию древних храмов и валов, нельзя забыть колоритную речь белозеров, свойственную только этому краю…»
Родимая мета города – сооруженная во времена Великого князя Ивана III крепость – «рубленая осыпь». Это был мощный земляной вал, поверх которого шла рубленая высокая стена с 6-ю глухими и 2-мя воротными башнями, и окруженный рвом. Стена дожила до середины XVIII века, ров перестал заполняться водой. Но и сегодня Вал вызывает трепет, особую гордость, почтение к нашим потомкам, и пишут его с большой буквы. Удачная древняя планировка донесла до наших дней выгодное расположение цитадели Белоозера (так когда-то назывался город), весь ее эффектный вид. Память мгновенно вытолкнула наружу изображения на старых открытках из домашнего альбома. Там же, внутри кремля (Вала) – школа, бывшая гимназия, где учились мои предки; храмы и музейные здания (сейчас всё это входит пока в общий историко-культурный комплекс, разные постройки, в том числе жилые).
Отсюда, с Вала, и открылось Белое озеро. Скорее к нему! Спустились на берег, ближе, ближе. («Мамочка! Тетушки, дядюшки! Дедушка! Бабушка! Видите? Я у вас, здесь, в гостях!» – кричала душа)
Берег был безлюдным: настойчиво и серьезно заладил дождь. Забралась на смотровую вышку – высокую металлическую конструкцию – и захватило дух, забились в одной амплитуде мое волнение (так же, как когда-то, лет сорок назад, впервые обнялась с морем) и желто-синее (не белое!) волнение этого водного безбрежья. Меня всегда спрашивали: в кого это у тебя – любовь к морю? Неизвестно. (Остается отшучиваться: «Инна», мужское имя, воин, 1 век, в переводе с готфского – «сильная вода», церк. календ.).
Еще одна интересная деталь для меня, как уже отмечалось, говор местных жителей – неторопливый, распевный, окающий – где-то больше, где-то меньше, интонация речи, которая для музыкального слуха особенно привлекательна и запоминаема. Мне это знакомо с детства: мои московские тетушки говаривали похоже. А то, что знаешь с детства, – это навсегда. Потому и стали мне Белозерск и всё к нему прилегающее родными.
Город со стороны озера как бы подстрахован каналом, который вырыт в середине 19-го века, «дабы спасались от гневливого озера купеческие суда, идущие по Мариинке». Всевозможные картинки, чаще бытовые, попадавшиеся мне во время моего променада вдоль канала и просившиеся в объектив, дополняли значение канала для жителей: девушка удит мелкую рыбешку – рядом терпеливо восседает кошка; на мостках – корзины белья для полоскания; купальщики, не рискующие спускаться по валунам в главную воду; а вот на центральном месте канала, где понтонная переправа, по-местному называющаяся лавой, с каких-то давних дней сидит сухонькая старушка, баба Шура, которая походит на ровесницу канала – и правда, родной он ей, она всегда здесь, оберегает в любой час, и с ней приятно перекинуться парой приветливых слов: «Да вы О ткуда будете-то-о? У Тамары Павловны? Да кто ж не знает-тО ее-о!».
В Белозерске нас гостеприимно приютил «прянишный» розовый домик коренной белозерки Тамары Павловны, очень дальней моей родственницы, в бывшем видного работника города. Сразу, войдя в калитку, куда привела меня племянница Оля, обволокло эдакое детское восхищение, как от красочной книжной иллюстрации. Во дворе – огородик, садик, цветник – всё как-то чинно встречает и нежится в скромных условиях северного лета; чистые окошки с занавесками и геранью, вычищенное крыльцо, покрытое круглыми вязаными половичками; кружевная поленница – полешко к полешку, как петелька к петельке. Выставочный образец. Это ее сын Сережа, мареман, плетет, как потом выяснится. Он же чудо-баньку сколотил, со всей положенной, да с выдумкой, атрибутикой. Кругом еще морские, водные эмблемы: Сережа – штатный работник большого водно-лесного хозяйства, работает на грузовом катере (показывал его нам). Те дни, помнится, жаркими не были, но в водицу-то озера-легенды окунулись. А как же? Сплавали. Далеко не уплыла, но впечатлило, приобщилась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: