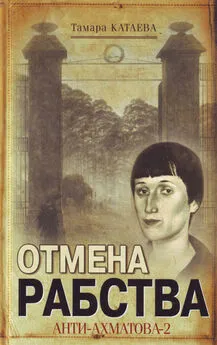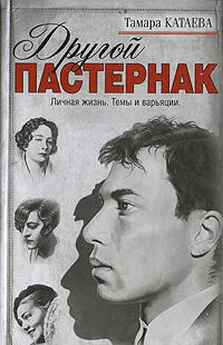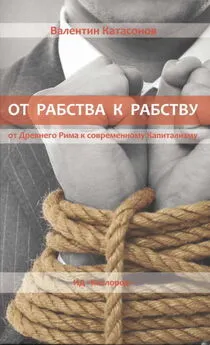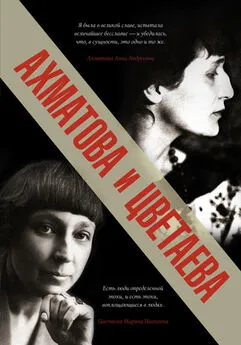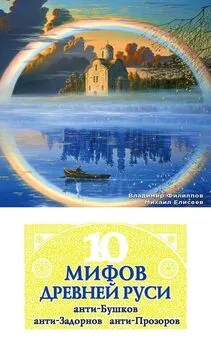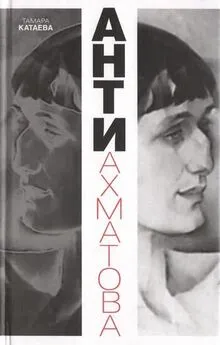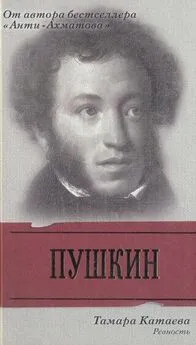Тамара Катаева - Отмена рабства: Анти-Ахматова-2
- Название:Отмена рабства: Анти-Ахматова-2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель: ACT
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-070684-6 , 978-5-271-31468-1 , 978-5-17-070683-9 , 978-5-271-31469-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тамара Катаева - Отмена рабства: Анти-Ахматова-2 краткое содержание
Тамара Катаева — автор четырех книг. В первую очередь, конечно, нашумевшей «Анти-Ахматовой» — самой дерзкой литературной провокации десятилетия. Потом появился «Другой Пастернак» — написанное в другом ключе, но столь же страстное, психологически изощренное исследование семейной жизни великого поэта. Потом — совершенно неожиданный этюд «Пушкин. Ревность». И вот перед вами новая книга. Само название, по замыслу автора, отражает главный пафос дилогии — противодействие привязанности апологетов Ахматовой к добровольному рабству.
Отмена рабства: Анти-Ахматова-2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот это и есть — все о госте из будущего. Для русских, во всяком случае. Никто бы не стал читать ни слова о таком обаятельном человеке, если б генеральскими погонами не горели у него на плечах венчальные свечи.
А вот о самом Анатолии Наймане:
Это высшая лига, или генералитет, или «голубые фишки» литературы <���…> у писателей этой категории есть привилегированный доступ к читателю, своего рода выслуженное предыдущими заслугами дворянство. <���…> Их карьера не зависит от медиауспеха, у них есть «шкурка»…
Л. Данилкин. Круговые объезды по кишкам нищего. Стр. 23С этим писателем заранее знаешь, что будешь ерзать и мучиться от скуки, что пишет он, будто ногти грызет: какие-то интеллигентные старики, которые не то оправдываются в чем-то, не то стучат друг на друга и мусолят архиважные подробности разыгранной пятьдесят лет назад сцены… (Л. Данилкин. Круговые объезды по кишкам нищего. Стр. 207.) Грубый литературовед Виктор Топоров начинает разбор его произведения, понятно, грубо: «Зачем записывать такое?»… да и статью называет раздраженно: «Литературная жвачка Анатолия Наймана».
Но если ничего не бывает случайного, за что ей было дано знакомство с Бродским? За что ей — чтобы он трубил о ней по свету? Не достаточно ли с нее было бы одних черных глаз Анатолия Наймана?
Табель об инскриптах
В статье об ахматовских дарственных надписях пишут так:
…чуть ли не безграничен и сердечно-биографический простор этих надписей. <���…> А о душевно-космическом размахе дарственных чувств Анны Андреевны напоминают и ее творческие связи с композитором Д. Д. Шостаковичем.
В. А. Шошин. Лукницкий. Стр. 130Из многочисленных надписей поэту Евгению Винокурову: «..малый дар», «…с верой в его силы», «… от которого жду стихи» — ну как не ждать, когда и он каждую книгу с трепетом несет ей и каждую надписывает: «с благоговением перед вашим великим талантом», «великой русской поэтессе», «с преклонением перед ее талантом». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 570.)
Она пишет, и ей пишут.
Телеграмма А. А. Тарковского: Поздравляю с днем рождения вас и русскую поэзию <���…> преданно целую руку. (Летопись. Стр. 524.)
Письмо А. А. Тарковского о поэзии Ахматовой, которая явила… невиданную широту охвата явлений жизни. Время пересеклось с Вашим подвигом и запечатлелось в каждом Вашем стихе». (Летопись. Стр. 637.)
Телеграмма Б. Л. Пастернака А.А. к простому, не юбилейному дню рождения. От души поздравляю Вас с днем рождения. Вижу Вас радостной, смеющейся. Как бы он хотел, чтобы она читала такие строки? Целую Ваши руки. Живу мыслью о Вашей бодрости и здоровье. (Летопись. Стр. 523.) Строка о том, чем жив Пастернак, похожа уже на насмешку над хорошо ему известными ожиданиями Ахматовой.
Дарственная надпись К. Паустовского <���…>: Анне Андреевне Ахматовой, лучшей поэтессе мира, наследнице Пушкина. (Летопись. Стр. 608.)
«Дорогой Анне Андреевне в знак преклонения перед великим Талантом и не менее великим Мужеством. Георгий Беленький. (Летопись. Стр. 632.) Приличный ее запросам инскрипт она переписала в свою записную книжку — ведь ее дневники будут издаваться соответствующими тиражами, а до музейных витрин кто доберется, дарственные надписи на чужих книгах разглядывать?
В долготу дней. Так поклонникам надписывает свои вечные книги Анна Андреевна. Псалмопевец же в церковно-славянском переводе возглашает: в долготу дний. В синодальном переводе, разумеется, говорится обыденно, по-простому — многие дни. Анна Андреевна по-каковски изволила выражаться?
Ахматова знала цену каждой своей надписи. Можно вешать ценники, а дарополучателей раскладывать по ранжиру.
Пишет сладкие посвящения заведомо неприятным, нужным людям — ведьме Сверчковой.
Милой Вере Алексеевне. Сохранился инскрипт на «Четках»: Не соблазнять я к вам пришла, а плакать. (Ин. Анненский. Милой Вере Алексеевне Фехнер в знак дружбы и любви. А. 29 октября 1921. Петербург.) В 1965 году эта Вера Алексеевна, подруга Недоброво, навестила Ахматову в Комарове.
В записях Х. В. Горенко: <���…> А. потом сказала мне, что эта женщина недобрая. Она не решилась высказаться полнее, но я чувствовала это. Она редко говорила плохое о людях. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 613.)
На дарственных даты: Масленица, Спас, Вербная суббота и пр. (См. Поливанов К. М. Дарственные надписи — литературное наследство.)
Натали Саррот из оснеженной Москвы в предвесенний Париж после 100 дней больниц. Ахм<���атова>. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 610.) В Комарове прозрачная весна, а в Москве уже пышное лето… Знать природу, описывать погоду — в глазах Ахматовой качества невысокие и уж от чистого сердца таким заниматься не станешь. Она обращается к метеорологическим эпитетам в случаях крайнего политеса. Когда нужно совершить некое сотрясение воздуха или наполнение приличной бумажной площади. Может, она даже считает, что делает это похоже на английские разговоры о погоде. Есть пародия на Евтушенко: Идут белые снеги, а по-русски — снега. Есть слово «заснеженный». Слова «оснеженный» нет, но для каких-то, маловероятно, чтобы внятных Анне Ахматовой, тонкостей его можно составить. Впрочем, оно есть в ее стихотворении: Оттого и оснеженная/ Даль за окнами тепла. Но самой употреблять свое слово спустя пятьдесят лет — чтобы все припоминали, не затеряли, — все равно не очень красиво. Был бы шикарный жест, если б незабвенный эпитет вынул из перевязанной коробки кто-то, кто пришел с подарком ей. Хотя Ахматова так серьезно относилась к своему творчеству и так все ценила, что могла и не заметить il faut pas.
Может, это есть какая-то форма заискивающей вежливости: произвести впечатление вычурностью инскрипта, показать, что потрудились, постарались.
Двадцатисемилетняя Ахматова дарит двадцативосьмилетней Саломее Андрониковой, княгине, она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Была нашей мадам Рекамье… В надежде на дружбу. Через год — Моему прекрасному другу <���…> с любовью и глубокой благодарностью (Тэффи. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 505).
Ахматова раздраженно иронизировала над пастернаковским посвящением: Родной волшебнице, вслед написала назидательно одергивающее (поздравление ко дню рождения): В день… разрешите… — столь же бредовое в своей суконности, как бред, который написал он. А его выбор — это всего лишь учтивая благодарность за ее лживое Борису Пастернаку, чьи стихи мне кажутся волшебными. Но ей поводы специальные не нужны — достаточно факта его существования. Ее, говорят, спросили: вы, значит, любите его стихи? (Это было известно, что одного из «четверых», Пастернака, — не любит, другую — ненавидит, давно погибшего и никому не перебегающего дорогу Мандельштама — готова была простить, но желала бы, чтобы книга его стихов никогда не выходила: Он не нужен.) Она подумала и ответила: «Я написала волшебные. Волшебство не любовь. Ему удивляются». (О. Коростелев, С. Федякин. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 488.) Поэзия Пастернака — курьез многоглаголания, фонтан непонятностей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: