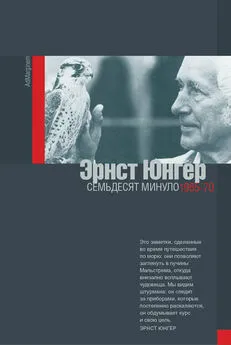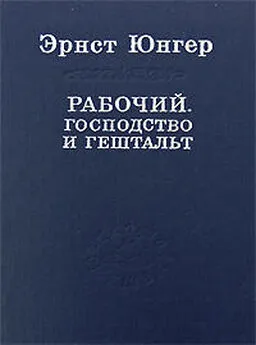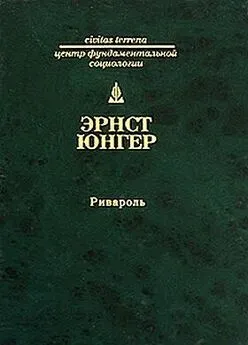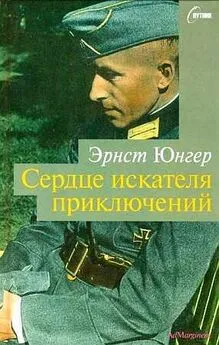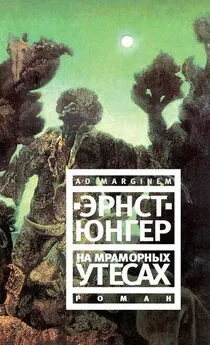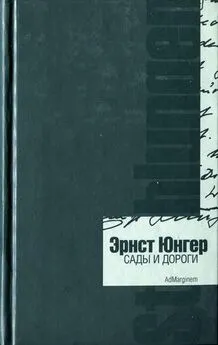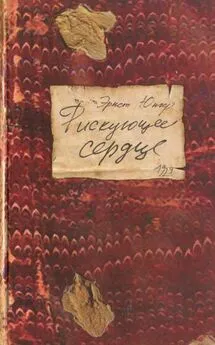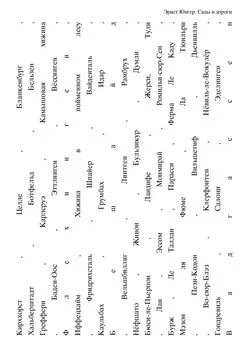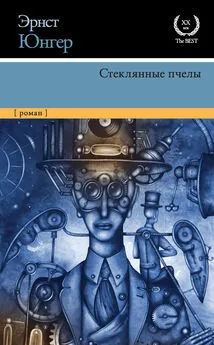Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970
- Название:Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Ад Маргинем Пресс»
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-91103-077-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970 краткое содержание
Первый том дневников выдающегося немецкого писателя и мыслителя XX века Эрнста Юнгера (1895–1998), которые он начал вести в 1965 году, в канун своего семидесятилетия, начинается с описания четырехмесячного путешествия в Юго-Восточную Азию, а затем ведет читателя на Корсику, в Португалию и Анголу и, наконец, в Италию, Исландию и на Канарские острова.
Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Снова ноябрь; со штауффенбергских лип за ночь опали листья, на ветках держатся только коричневые, летучие семенные коробочки. Листва шпалерных груш перед домом поблескивает желтой лаковой краской. Она покрыта красными и черными пятнышками, которые въедаются в ткань и обнажают прожилки. Особенно красиво из года в год окрашивается фендлера [262]у садовой ограды. Узор красных рубчиков постепенно расходится, как будто листья и потом все изящное дерево прижигают раскаленными решетками.
В саду еще последние розы и хризантемы, ковер чужих осенних безвременников и поздние аметистовые крокусы с острыми чашечками, которые цветут нежно и разрозненно. Еще пчелы облетают цветы в свете полуденного солнца, и маленькие коричневые бражники в сумерки. Прямо перед садовой калиткой великолепно: астра в рост человека с густым лиловым хохолком над накидкой из медленно умирающей желтизны. Палитра Тулуз-Лотрека.
На цветочных грядках синева морозника [263]становится темнее, в то время как сорта, растущие в лесу, покрыты зелеными стыками. Цикорий-эндивий [264]должен освободить грядки после первого же сурового мороза; напротив, брюссельская капуста и зеленый лук вызреют еще лучше. Полевой салат выдерживает мороз, петрушка не всегда.
Утром сад серебряный, в полдень золотой, вечером опускается туман. Теперь начинается зимняя спячка; но нужно, чтоб намело снегу.
ВИЛЬФЛИНГЕН, 2 НОЯБРЯ 1965 ГОДА
Сегодня был, наверное, последний солнечный день в году; поэтому мы с утра поехали к чете Котта наверх в Доттернхаузен. В швабских краях еще сохраняются соседские связи — ближние и дальние, испытанные и новые.
Замок с его старыми картинами и книгами, длинными коридорами, на стенах которых растут настоящие леса оленьих рогов — сегодня так уже не живут. Завтрак в библиотеке, костяк которой был в основном составлен Иоганном Георгом Котта из фондов собственного издательства. Мы раскрывали тот или иной титульный лист и в лице Штирляйн имели не просто какого-то, а конкретного эксперта как истории издательства «Котта», так и истории семьи вплоть до родословной.
Разговор зашел о потере состояния, которая произошла между 1830 и 1860 годами. Я подумал при этом об альбомах своей прабабушки и своей бабушки, один от 1830 года, другой от 1855 — какая разница в переплетах, в стихотворениях и, конечно, в почерках. Пыль смахнута с крыльев; со всей будничностью проступили прожилки. Штирляйн назвала точную дату: год смерти Гёте, а также типографское доказательство упадка: первое издание второй части «Фауста», которое появилось в 1833 году.
Новые поступления оставлены в нишах и не находят себе места. Я полистал роман одной американки по имени Мэри Маккарти, «Клика», книгу, имевшую огромный успех. В ней описывается судьба группы молодых девушек одного из привилегированных колледжей. Как свидетельствует текст на суперобложке, «автор реконструирует самые интимные детали эротического опыта». Но поскольку на этом нынче основывается успех почти каждого романа, то тираж в десять миллионов по всему миру не может быть объяснен только этим.
Хозяин дома высказал мнение, что привлекательность этой заурядной и скучной книги основывается на второй главе, которую я как раз просматривал. Там во всех технических подробностях изображается процесс лишения девственности. Это напоминает работу дантиста, пломбирующего зуб.
Дело демифологизации, которым сегодня занимаются бесчисленные умы, напоминает деятельность муравьиного роя, проникшего в кухню и с фантастическим усердием двигающего там челюстями. Муравьи изгрызают деликатные вещи, не уставая сообщать друг другу, как это вкусно. Ганглии, конечно, грубее, чем они же, к примеру у Ретифа де ла Бретонна. Эротический роман конца XVIII столетия лучше решал задачу.
Демифологизация нацелена на приспособляемость личностей и их поведение в соответствии с законами машинного мира. Обязательный атрибут (коль скоро роман берется за это дело) — нечто вроде фонографической и фотографической аутентичности. Герой должен, как весь мир, носить джинсы и говорить не иначе, как можно услышать в метро или на улице. Отклонения могут вести только вниз по лестнице, например, к гротеску или жаргону. Со времен Золя это мастерство достигло значительного прогресса.
Дефекты героя должны не только отмечаться, но и подчеркиваться. Так Мэри Маккарти неоднократно упоминает, что у типа, совершающего дефлорацию, воняет изо рта. Эта черта бросилась мне в глаза уже у Сартра. Персонажи напивались, их тошнило, у них была менструация и так далее.
В замечаниях одного современного романиста по поводу своего ремесла я нашел высказывание, что солдат должен иметь плоскостопие и тому подобные недостатки, чтобы проявить литературный талант. С этим худо-бедно еще можно согласиться — сниму шляпу, если при этом получается какой-нибудь Фальстаф или Санчо Панса.
Выступает ли кто-либо как нищий или миллионер, как гений или деревенский дурак, имеет значение, пожалуй, для общества, однако не для поэта. Это справедливо также для живописца, мима, танцора, вообще одаренного человека. Он всему отводит свой ранг.
Потом мы вчетвером поднялись на Шафберг при теплой погоде, но с резким ветром. Воздух был сухим и теплым; взгляд далеко охватывал швабский край с квадратами его пашен и темными участками леса.
Широкая котловина была когда-то еще вольнее; между тем многое заросло лесом, и с исчезновением овечьих отар на лугах поднялся можжевельник. Овцеводство для Георга фон Котта было еще важным дело, которое иногда даже оттесняло на второй план издательские заботы; так, в авторской корреспонденции часто обнаруживается указание, что из-за стрижки с ответом пришлось-де повременить.
Во время восхождения мы беседовали об этом с его правнуком. В лощине снова и снова возникала большая овчарня, которая, слава Богу, еще сохранилась. Такая постройка очень согревает сельскую местность, как другие ее вымораживают.
Потом о содержании скота в целом и его автоматизации в частности. Бройлерные петушки: клювы, гребешки и когти обрезаются, вообще все, что нецелесообразно экономически. Неподвижность, искусственное освещение, гормоны и яды, под конец впрыскивание пряностей. Все, что из этого вытекает, очень подозрительно; люди, которые снабжают нас по такой технологии, для собственной надобности держат дюжину куриц-несушек, которые по старому обычаю копаются в навозе.
«Одна мысль о продаже душ ужасна; следует опасаться всего, где ярусами громоздятся такие жилые гробы для псевдосуществ. Животные делаются големами, безымянными; пропадает „схема“».
Так говорил Франц фон Котта, суждения которого часто меня удивляют, поскольку совершенно выходят за рамки экономического мира. Поэтому ему нелегко подобрать партнера, который к тому же еще согласился бы считаться, например, и с астрологическим обоснованием не только характеров и явлений, но также повседневных мероприятий. При любом поступке или поручении, перед строительством загона, началом поездки, покупке и продаже бумаг, проверяется констелляция. То есть основательно исследуется конъюнктура.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: