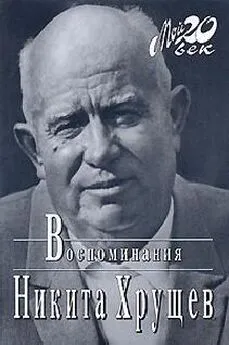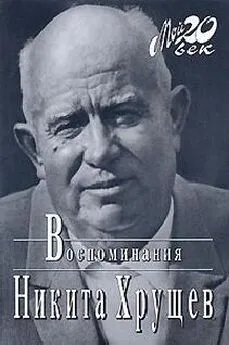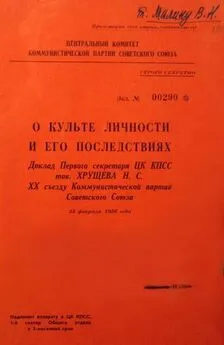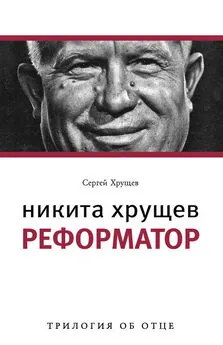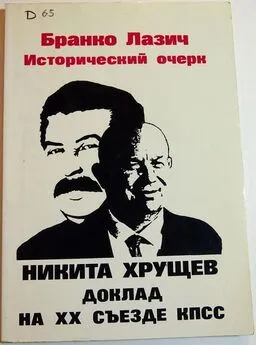Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Рождение сверхдержавы
- Название:Никита Хрущев. Рождение сверхдержавы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0534-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Рождение сверхдержавы краткое содержание
Главной темой этой книги являются события, связанные с созданием ракетно-ядерного потенциала нашей страны и противостоянием США и Советского Союза, кульминацией которого стал Карибский кризис 1962 года. Рассекреченные в последнее время как в США, так и в России документы, рассказы Никиты Сергеевича и других очевидцев, а также личные впечатления автора, участвовавшего в работе над созданием ракет, детально воспроизводят историю достижения стратегического паритета, отодвинувшего угрозу возникновения третьей мировой войны.
Никита Хрущев. Рождение сверхдержавы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Почти десятилетия пролежала в ожидании разрешения на жизнь орбитальная станция «Алмаз». Тогда, в 1970-е годы, она обогнала конкурентов на десять лет. Затраченные сотни миллионов легли на дно мертвым грузом. Станцию сделали по заказу военных. Она позволяла увидеть на Земле любое подозрительное движение, даже через облака. Для этого ее оборудовали специальным радиолокатором. Но Устинов сказал: «Нет». Задел передали королёвскому бюро, из него потом родилась первая советская пилотируемая орбитальная станция «Салют». Челомей не сдавался. С помощью министра обороны маршала Гречко ему удалось-таки запустить свой «Алмаз» на орбиту в 1973 году, но под королёвским псевдонимом «Салют». Это были «Салют-2», «Салют-3» и «Салют-5». После смерти Гречко все пошло прахом. Когда Устинов пересел в кресло министра обороны, Челомею грубо приказали ограничиться делами флота. И все… Новоиспеченный маршал Устинов дал команду своим генералам не общаться с Челомеем: к нему не ездить, у себя не принимать.
Когда Челомей доставил очередной усовершенствованный «Алмаз» на полигон и об этом доложили министру обороны, тот в гневе приказал: «Запуск отменить. Станцию уничтожить!»
Начальник полигона не выполнил грозной команды, рука не поднялась. Под свою ответственность он спрятал спутник до лучших времен. Конечно, генерал рисковал: узнай Устинов — не сносить ему погон. Министр не прощал подобного ослушания. Но ему не донесли…
Разумеется, создать полную изоляцию оказалось невозможно. Челомеевский «Протон», УР-500, оставался единственным носителем, способным вывести на орбиту королёвскую орбитальную станцию. Но дальше порога Владимира Николаевича теперь не пускали.
Ни о чем подобном я не подозревал в мое первое рабочее утро 8 марта 1958 года в конструкторском бюро Челомея. В приподнятом настроении я ощущал себя готовым к подвигам, но немного волновался: как она выглядит — эта работа?
Лаборатория автопилотов, куда меня определили, располагалась на втором этаже нашего единственного корпуса, неподалеку от лестницы. Возглавлял ее личный файн-механик главного конструктора Михаил Борисович Корнеев. Так его называл шеф на немецкий лад. Челомей тяготел к немецкой школе механики, ценил ее добротность, склонность к скрупулезным вычислениям и доказательствам.
Михаил Борисович никогда не учился в институте. Отсутствие образования ему компенсировали золотые руки. Он мог привести в надлежащее состояние любой механический прибор, любой фирмы, а самое главное, мастерил разные хитроумные штучки для опытов Челомея. Владимир Николаевич в свободное от конструирования ракет время увлекался различными приложениями теории колебаний. Тогда он занялся повышением устойчивости стержней маятников за счет вибрации их оснований. У Михаила Борисовича на столе стоял специальный приборчик: ось, соединенная системой рычагов с электромотором, а на оси обыкновенный маятник, как в ходиках. Однако стоило моторчику начать трясти ось вверх-вниз, как маятник сам по себе поворачивался и становился вверх ногами, вернее, вверх грузом. Различных чудес с колебаниями мне предстояло увидеть еще немало.
Заместителем у Корнеева работал кандидат технических наук Валерий Ефимович Самойлов. Таким образом, Главный, видимо, увязывал практику с теорией, руки с головой.
Лаборатория оказалась немногочисленной, кроме меня, числились еще инженеры — Уткин, Петрунько и Заботкин, техник Галя, дочь Михаила Борисовича, и механики. Я запомнил из них Мишу Сахарова, способного заткнуть за пояс самого Михаила Борисовича.
Центр комнаты средних размеров занимали столы, расставленные в два ряда гуськом один за другим. По стенам тянулись длинные верстаки. На них в кажущемся беспорядке лежали и стояли разные металлические коробочки, круглые, квадратные, прямоугольные. Все они соединялись толстыми и тонкими пластинками проводов, запрятанными в грязно-желтые кишки чехлов из хлорвинила. Валерий Ефимович, которому вручил меня Главный, пояснил, что это и есть автопилот АП-70, мозг ракеты, ее система управления. Предназначалась система для ракеты П-5, запускаемой подводной лодкой с поверхности океана по наземным целям. В просторечии — «пятерка», единственное изделие, которым нам предстояло заниматься. Остальные П…, красовавшиеся на плакатах в кабинете шефа на третьем этаже, существовали пока на бумаге.
Место мне выделили у окна, светлое. Самойлов положил на стол длиннющий рулон принципиальных схем и описание автопилота и куда-то исчез. Как мне показалось, с облегчением. Думаю, что появление «блатного» (или как еще мне себя назвать?) подчиненного не доставило ему особой радости. В таких случаях не знаешь, что поручить, как спросить, — сплошные хлопоты.
Надеюсь, чувство неудобства длилось не очень долго. Конечно, до конца изжить его не удается ни той, ни другой стороне. Оно сидит, как гвоздь в ботинке, нежданно-негаданно вдруг вторгаясь в, казалось, прочно установившиеся дружеские отношения. Постоянно я чувствовал себя настороже, моя фамилия определяла, что можно, а что нет, какое предложение приемлемо, куда лучше вообще не соваться. За каждую ошибку приходилось дорого платить, если не сразу, то по истечении времени, во сто крат.
За каждым словом приходилось следить, постоянно оглядываться. Казалось, чего проще — поспорил на совещании или даже в курилке. Но и тут меня не оставляли сомнения. Почему собеседники согласились со мной? Я их убедил, или они решили не связываться с моей фамилией? И так постоянно…
После отставки отца в октябре 1964 года в этом смысле мне стало даже легче.
Мой первый рабочий день завершился вызовом наверх, к шефу. Владимир Николаевич поинтересовался успехами. Я с гордостью доложил: постигаю схему автопилота, кое-что уже понял. Он не проявил особого интереса. Хотя этой машине еще только предстояло научиться летать, для хозяина кабинета она уже отошла во вчерашний день. Челомей позвал меня совсем по другому поводу.
По вечерам Владимир Николаевич откладывал хлопотные дела главного конструктора. Совещания, звонки, чертежи отставлялись в сторону. Эти часы он посвящал науке. То он приглашал к себе Михаила Борисовича с его хитроумными приборами. То его кабинет заполняли аспиранты — Челомей преподавал в МВТУ, — и просто те, кого он, по ему одному известным признакам, выделял из общей инженерной массы, почитал достойными приобщиться к таинствам теории колебаний. Иногда возникали жаркие дискуссии у доски. Как их назвать: диспуты, семинары? Порой беседы проходили с глазу на глаз. Но чаще Владимир Николаевич читал лекции. Делал он это феноменально. Глубокие знания сочетались с природным артистизмом. Когда он брал в руки мел и подходил к доске, сухие математические уравнения оживали. В те моменты для него в мире не существовало ничего, кроме узора исполнявших замысловатый танец формул. В финале спадала пелена, сбрасывались ненужные наслоения математических значков и слушателям становилось очевидным, как, к примеру, с помощью уравнения Матье бесконечно малые величины вырастают в реальную силу, способную переворачивать маятник, упрочнять стержни или топить в жидкости еще секунду назад рвавшиеся вверх пузыри. Нужно только правильно выбрать, куда и какие вибрации приложить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: