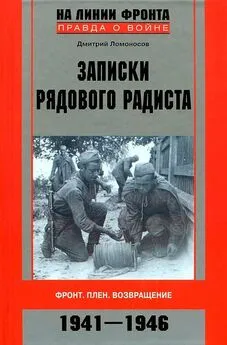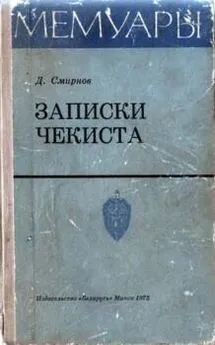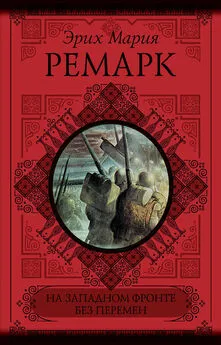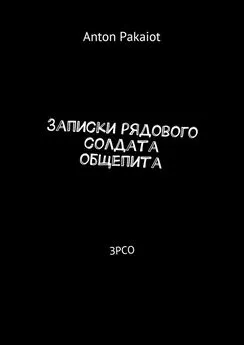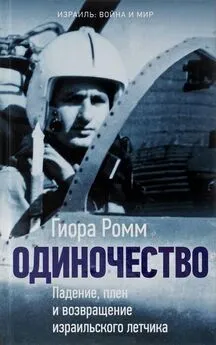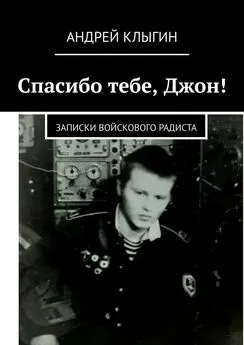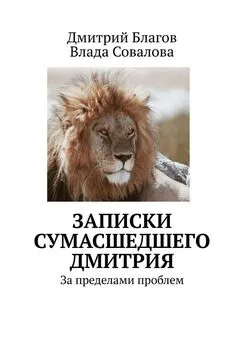Дмитрий Ломоносов - Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946
- Название:Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2012
- ISBN:978-5-227-03409-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Ломоносов - Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946 краткое содержание
Дмитрий Борисович Ломоносов в свои почтенные 87 лет известен интернет-сообществу как, пожалуй, самый пожилой российский пользователь Интернета и блогер. Несмотря на современный образ жизни, главным событием в ней для Д. Б. Ломоносова остается далекая война, от начала которой минуло уже 70 лет. Память о ней долгие годы не давала покоя ветерану, и он изложил свои воспоминания на страницах этой книги. Репрессированные родители, сын «врагов народа», короткая юность, прерванная войной, нелегкий солдатский труд в кавалерийской части, скитания в плену, едва не окончившиеся смертью от истощения в самые последние дни войны, и, наконец, послевоенное клеймо бывшего военнопленного. Личная судьба солдата и общая слава военного поколения представлены в этой замечательной в литературном отношении и исторически точной книге.
Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не могу забыть своих взаимоотношений с двумя из них: плотником Михеичем и маляром Максимовой. Теперь таких мастеров уже не существует, они были еще «пережитками» дореволюционной практики, отличавшимися высшей добросовестностью в работе; халтуры в деле, с которой сегодня встречаешься повсеместно, они не допускали.
С бригадиром плотников Михеичем связана такая история.
Деревообделочный комбинат, носивший название «Восьмирамный», предложил выполнить реконструкцию лесотаски. Так называлась мостовая деревянная, рубленная из бревен эстакада, по которой цепным транспортером подавали с берега Волги во двор комбината бревна на распиловку.
Эстакада представляла собой пару ферм, скрепленных между собой бревенчатыми связями, по верхнему поясу ферм укладывался дощатый настил и обитый железом желоб, в котором двигалась цепная передача, приводимая в движение электромотором. Фермы были переброшены через цодъездные железнодорожные пути, проходящие по берегу, и имели длину около 200 метров, опирались на промежуточные опоры — шпальные клетки. Конструкция ферм состояла из бревен, сращиваемых по длине, с многочисленными поперечными связями также из бревен. Работа состояла в разборке существующей лесотаски, пришедшей в негодность, и сборке на ее месте новой.
Взявшись за выполнение этого заказа, показавшегося мне очень выгодным, я не предполагал, насколько технически сложным он окажется. Взяв в руки чертежи и ознакомившись с многочисленными узлами сопряжений — врубок под различными углами, я на неделю засел в библиотеке изучать руководства по деревянным конструкциям и зарисовывать различные системы врубок.
После этого пошел «к зеленому дубу» искать исполнителей, где мне на глаза попался Михеич. Он сразу привлек мое внимание степенностью и уверенностью: пожилой крепкий мужик с окладистой черной, с проседью бородой, в картузе с засунутым за ухо плотницким карандашом. Узнав, что мне нужно, он не стал смотреть чертежи, а предложил пойти на место посмотреть объект «в натуре».
Посмотрев, он заявил, что работу выполнить можно. Для этого я должен буду ему представить «кроки» (схемы), с помощниками, которых он пришлет, сделать разбивку на месте работ и выставить шесты (реперы) с вертикальными отметками. Он добавил:
— Ты, Митя, приходи не чаще чем раз в два дня. Мне не нужна опека.
Мы после этого обговорили с ним сумму зарплаты. Она оказалась в пределах договорной стоимости работ. Оформили трудовое соглашение, составили списки рабочих, которых нужно было зачислить на временную работу, и приступили к строительству.
Ему оказались не нужными чертежи врубок и сопряжений. Работая только топором, лучковой пилой, долотом и коловоротом, руководимые им плотники с ювелирной точностью вырезали сложные конфигурации сопрягаемых частей бревен, так что после связывания узлы не имели ни малейшего люфта.
Когда работы были закончены, после испытаний на прочность и жесткость конструкции, они были приняты без замечаний.
С бригадиром маляров Максимовой меня познакомил кто-то из прорабов, когда мне потребовалось выполнить большой комплекс малярных работ.
В артель обратился директор судоремонтного завода Панкратов с предложением отремонтировать дебаркадер (плавучую пристань), стоявшую в затоне (был март 1950 года).
Дебаркадер представлял собой железобетонное корыто, на котором было надстроено деревянное каркасное, обшитое вагонкой здание речной пристани с рестораном, административными помещениями, комнатами отдыха. Выглядел он весьма непрезентабельно: краски везде облупились, левкас отваливался целыми полосами.
Сроки выполнения работ были очень жесткие, поэтому, приходя на объект (к нему нужно было добираться по льду затона, перебираясь через разводья на лодке), я проявлял крайнее беспокойство тем, что работающих слишком мало: на обдирке старой краски работают два-три подсобника. Встретив Максимову, а она была исполнителем одновременно на многих объектах, я выразил ей свою озабоченность.
— Что ты, Анчутка, — сказала она, — не волнуйся, все будет в порядке!
Действительно, на стройке все прибавлялось число работающих. Однажды она потребовала, чтобы я пришел вместе с представителем заказчика «принять колера». Я удивился, так как цветовое решение было заранее уже определено. Придя на место, я увидел, что кусок гладкой стены был закрашен квадратами условленного голубого цвета, но с различными трудноразличимыми оттенками. Выбрав один из них, показавшийся наиболее подходящим, под ним прямо на стене подписались представитель завода и я.
Однажды, придя на завод, я увидел стоящего на высоком берегу затона директора с начальником ОКСа, смотрящими на стоящие в затоне суда. Их внимание привлек дебаркадер, вдруг засиявший свежим голубым цветом. Перебравшись на дебаркадер, я обнаружил, что на нем одновременно работают маляры в количестве, намного превышающем указанное в наряде. Работы, в состав которых входили росписи и трафареты в зале ресторана, были выполнены даже до срока. При этом никакого технического руководства работами с моей стороны не требовалось.
Уже теперь, общаясь с рабочими на строительстве собственной дачи, я вспоминал саратовских мастеров с чувством чего-то безвозвратно утерянного, не только мастерства, но, главное, врожденной ответственности и гордости за свой труд.
За короткий срок работы в артели я немножко «прибарахлился», заказав себе два шевиотовых костюма.
Поступив на работу в артель, я нашел себе жилье, сняв угол в одноэтажном частном домике, которым владела одинокая старая вдова тетя Поля. Она согласилась готовить мне завтраки и ужины, так что я жил у нее в относительном комфорте. Правда, она все время «доставала» меня предложениями жениться. Один из «проектов» ее особенно занимал: девушка из богатой семьи. Они занимаются тем, что изготавливают ковры — одеяла, разрисованные под трафарет лебедями, плавающими среди кувшинок, и другими подобными живописными шедеврами. Реализация на рынке этих ковров приносила им большой достаток. За время жизни у нее она так ко мне привязалась, что, когда я уезжал уже в Москву, горько рыдала.
Вася Кирьязи устроился работать помощником печника в Энгельсе. Тогда еще не было автомобильного моста через Волгу. Зимой ходил по льду автобус, а летом работала переправа катером. Во время осеннего и весеннего ледохода связь вообще прерывалась. Поэтому Вася в Саратове появлялся редко. Но когда приезжал, мы с ним музицировали на мандолине с гитарой.
Вечерами я захаживал в Дом культуры железнодорожников, находившийся неподалеку, в Парке Очкина. Там я некоторое время играл в струнном ансамбле на балалайке-басе и участвовал в драматическом кружке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: