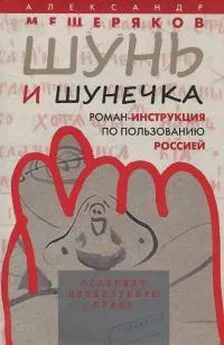Александр Мещеряков - Император Мэйдзи и его Япония
- Название:Император Мэйдзи и его Япония
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наталис
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8062-0306-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мещеряков - Император Мэйдзи и его Япония краткое содержание
Книга известного япониста представляет собой самое полное в отечественной историографии описание правления императора Мэйдзи (1852–1912), которого часто сравнивают с великим преобразователем России – Петром I. И недаром: при Мэйдзи страна, которая стояла в шаге от того, чтобы превратиться в колонию, преобразилась в мощное государство, в полноправного игрока на карте мира. За это время сформировались японская нация и японская культура, которую полюбили во всем мире. А. Н. Мещеряков составил летопись событий, позволивших Японии стать такой, как она есть. За драматической судьбой Мэйдзи стоит увлекательнейшая история его страны.
Книга снабжена богатейшим иллюстративным материалом. Легкость и доступность изложения делают книгу интересной как специалистам, так и всем тем, кто любит Японию.
Император Мэйдзи и его Япония - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Шпиономания захлестнула Японию. Некая женщина обратилась в полицию с требованием арестовать ее мужа на том основании, что он является российским агентом. При допросе выяснилось: он сбежал из дому, захватив с собой какие-то пожитки. Она же решила, что если полиция поверит в ее шпионскую версию, то мужем займутся серьезно и схватят быстро. Газета «Ямато симбун» опубликовала список иностранных шпионов, в который попал даже доктор Бёльц, пользовавший наследного принца Ёсихито и награжденный японским орденом. Бёльц пожаловался в Министерство двора, ему предложили охрану, а редактора отчитали, и он без промедления опубликовал опровержение. В другой газете появилась статья, превозносящая заслуги немецкого доктора [310]. Журналисты, бывало, бежали впереди паровоза, но стоило сделать им намек, как их мысль – пока что! – начинала работать в правильном направлении.
Желание воевать с Россией объяснялось не только экономическими и геополитическими соображениями. Ввязавшись в войну, японцы выживали из себя комплекс неполноценности. Они прилагали титанические усилия, чтобы вообразить себя «настоящими» европейцами. Стали звучать заявления, что у японцев белое сердце под желтой кожей, а вот у русских – желтое сердце под белой кожей [311]. То есть это война цивилизации с дикарством, война конституционной монархии с монархией абсолютной. Десять лет назад Фукудзава Юкити тоже говорил о том, что японско-китайская война есть сражение культуры с варварством. Фукудзава умер, но наработки его пригодились.
Но покров «цивилизации» оказался тонок. Как это всегда бывает, война обнажила первобытные пласты сознания. Уходившим на фронт солдатам женщины дарили куски одежды в качестве оберега. Той одежды, которую они носили сами. Логика здесь была такая: поскольку женщина – существо от природы нечистое, то «чистый» металл (пуля) не пожелает попадать в носителя нечистого начала [312]. Русских же солдат обороняли от беды серебряные образки.

Ватанабэ Нобукадзу. Сражение с казаками у реки Ялу (1904 г.)
На этой гравюре японцы и русские отличаются друг от друга не лицом, а формой. В глубине души многие японцы того времени все еще желали, чтобы их лица приобрели европеоидные черты.
Война требовала денег, подданных обложили целевым военным налогом. С началом войны в Японии ввели государственную табачную монополию. Качество табака немедленно упало. Зато, как и во время прошлой японско-китайской войны, в магазинах появились новые сорта патриотических сигарет – «Сикисима» (одно из древних названий архипелага), «Ямато» (древнее название Японии), «Асахи» («Утреннее солнце» – символ «Страны восходящего солнца»), «Ямадзакура» («Горная сакура»). На ум курильщику немедленно приходили стихи идеолога всего «чисто» японского Мотоори Норинага (1730–1801):
Если спросят тебя
О сердце Ямато-страны
На островах Сикисима,
Ответь: запах сакуры
Под утренним солнцем.
Страна дымила трубами военных заводов и раскуривала папиросы. Курили все – и мужчины, и женщины. «Некурящая женщина и постящийся монах – большая редкость», – повторяли остряки.
Каждый курильщик был когда-то школьником. Каждый школьник был обязан помнить, что между сакурой, патриотизмом и верноподданничеством существует прямая связь, на которую указывал учебник: «Прекрасные и изящные цветы нашей сакуры не имеют себе в мире равных. В своем желании следовать путем верноподданничества наши предки были смелыми, сострадательными, честными, верными и настойчивыми; другие страны не знают ничего подобного».
Сакура к этому времени стала настоящим символом Японии. Журнал «Нихондзин» считался когда-то оппозиционным, но Сига Сигэтака с его идеями относительно «неповторимой» природы Японии пришелся теперь ко двору. Школьные учебники противопоставляли сакуру «королю китайских цветов» – пиону (символ процветания и знатности) и «королеве цветочной Европы» – пышной и пахучей розе. Сакура ассоциировалась с чистотой – чистотой помыслов и дел [313]. Японцы вспоминали слова Нитобэ Инадзо из его книги «Бусидо», где он пропел настоящий гимн цветку сакуры: «Утонченность и изящество его красоты взывает именно к нашему эстетическому вкусу сильнее, чем какой-нибудь иной цветок. Мы не способны разделить с европейцами их любовь к розам, которым недостает простоты нашего цветка. Кроме того, шипы, скрытые за сладостным ароматом розы; та стойкость, с которой она цепляется за жизнь, как если бы она не желала или боялась умирать, предпочитая увядать на корню вместо того, чтобы заблаговременно опасть со стебля; ее эффектные цвета и насыщенный запах – все эти черты столь отличны от нашего цветка, который не несет в своей красоте ни острия, ни яда; он готов в любую минуту расстаться с жизнью по призыву природы; его окраска никогда не бывает пышной, а легкий аромат не отягощает обоняния» [314].
Лишенный любви к сакуре не мог носить звание настоящего японца. Цветом японца был объявлен белый. Крестьяне полагали, что бурное цветение сакуры – предвестник богатого урожая. Хэйанские аристократы считали, что ее цветы символизируют буддийское положение о непрочности и иллюзорности жизни. Теперь быстротечность цветения сакуры ассоциировалась с готовностью к самопожертвованию во имя императора и его Японии. Нашей Японии. Газеты времен японско-русской войны помещали на первых страницах своих экстренных выпусков рисованные портреты героев в обрамлении из цветов сакуры [315]. На вышитых золотой нитью погонах адмиралов красовалось три цветка сакуры (в сухопутных войсках знаком различия служили пятиконечные звезды). В отличие от Запада, где державность обычно рядилась в перья и шкуры хищников (орел, лев, тигр), в Японии господствовал растительный код национализма.
Перспектива.Во время Второй мировой войны предназначенные для воинов-камикадзе летательные аппараты одноразового использования назывались «цветок сакуры». Когда война уже подходила к концу, перед своим последним полетом пилот-смертник младший лейтенант Окабэ Хэйити сочинил:
Нам бы только упасть,
Словно весенняя сакура —
Лепестки так чисты и сияющи!
Это была первая война, когда каждую часть сопровождали фотографы. И пусть фотоаппараты того времени не были в состоянии фиксировать быстрое движение, почин был сделан. С этих пор военные фотографы начинают все больше вытеснять работы военных художников.
Закрепленное в культуре стремление к документированию истории (в том числе персональной) обусловило тот факт, что фотография к этому времени получила в Японии широчайшее распространение. Так что фотографы хорошо зарабатывали и в тылу – каждый солдат считал своим долгом перед отправкой на фронт оставить свое изображение родным. Порой не просто на память. Фотографии погибших стало принято ставить на домашний алтарь и там совершать изображению приношения, «кормить» фотографию. Когда в Японии появились первые фотографы, их фирменной приманкой была фраза: «Ценнейшее искусство: сохраним для потомков папу с мамой на сто лет вперед». Теперь фотографы сохраняли для родителей образ погибшего сына.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: