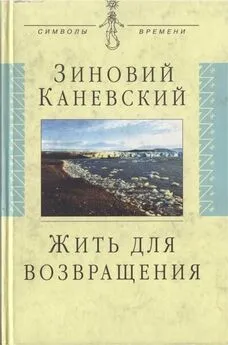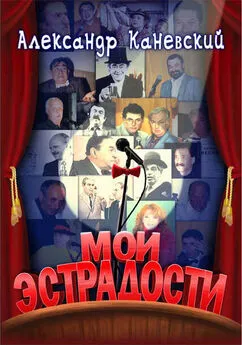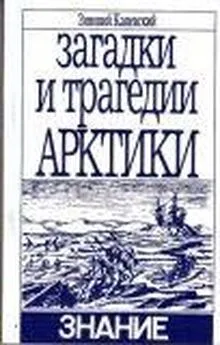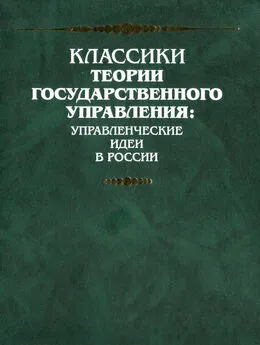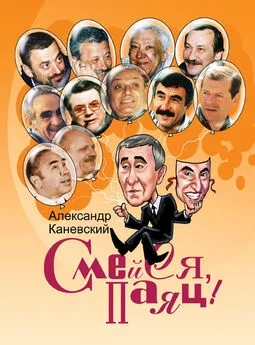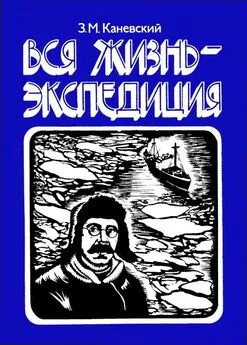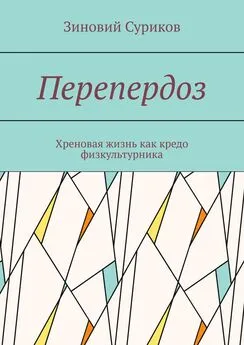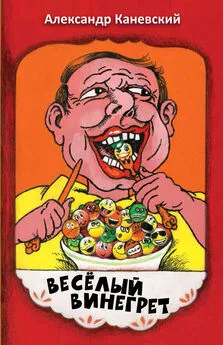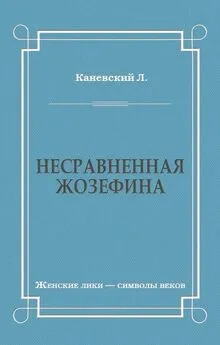Зиновий Каневский - Жить для возвращения
- Название:Жить для возвращения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0178-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зиновий Каневский - Жить для возвращения краткое содержание
Посмертная книга Зиновия Каневского (1932–1996) — это его воспоминания о жизни, о времени, в котором он жил, о людях, с которыми встречался, о трагедии, произошедшей с ним в Арктике, и о том, как ему, инвалиду без обеих рук, удалось найти свой новый путь в жизни.
Первая часть написана в форме повести и представляет собой законченное произведение. Вторая часть составлена из дневниковых записей и литературных заготовок, которые он не успел завершить.
Жить для возвращения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Папа, ты евлей?
И, не дожидаясь ответа, добавил уже совершенно неожиданное:
— Когда выласту, тоже обязательно буду евлей!
На следующее же утро после возвращения я сел писать репортаж об увиденном и дней через пять с энтузиазмом потащил его в редакцию «Знание — сила», Саше Гангнусу, возглавлявшему отдел наук о Земле. Я трепетал, отдавая «материал», но ничуть не сомневался в том, что он мне удался. Саша прочел его быстро и столь же быстро вынес свое редакторское мнение:
— Не пойдет.
Он внимательно и вполне дружелюбно отнесся к тексту, четко объяснил мне мою авторскую беспомощность, отмел робкие возражения и велел переделать все с начала до конца. Расстроенный, я кинулся к Натану, и тот не отказался прочесть двадцать с чем-то машинописных страниц, после чего изрек свое «не пойдет», только куда более категорично и, как мне показалось, безжалостно. Возвращая мне рукопись, «мэтр» приложил к ней мои же собственные письма, отправленные ему с Диксона и с острова Хейса. Он посоветовал мне использовать их для серьезного научно-популярного репортажа, значительно оживить рассказ, убрать восторги, а в нужных местах — прибавить их, но ни в коем случае не выхолащивать научно-техническую суть. Иными словами, написать так, чтобы автору не было стыдно посмотреть в глаза родоначальникам жанра научно-художественной литературы — Николаю Сергеевичу Атарову, Даниилу Семеновичу Данину, ну и ему, конечно, батюшке-барину Натану Яковлевичу Эйдельману.
Очерк переделывался капитально шесть раз, что заняло месяца два-три. В конце концов Саша Гангнус, хоть и ворчал, что надо бы заставить меня еще помучиться, согласился показать его начальству. Он как-то легко одобрил предложенное мною название, в последующем, насколько помню, ни один заголовок не проходил с первого захода. Я выбрал начальную строку из грустного лирического стихотворения Михаила Светлова:
Есть земля на Севере —
Францева Иосифа,
Там навек забуду я,
Что меня ты бросила.
Мне людей не надобно,
Мне делиться хочется
С белыми медведями
Черным одиночеством…
Очерк стали готовить к публикации под рубрикой «Репортаж номера» (и впоследствии львиная доля написанного мною для этого журнала шла либо под этим девизом, либо под другим: «Наука. Страницы героические»), В самом конце 1968 года он появился на страницах надолго ставшего «моим» журнала, одновременно с переводом из Дж. Микеша.
Глава третья
ЕСТЬ ЗЕМЛЯ НА СЕВЕРЕ
Почему-то я мгновенно заболел Землей Франца-Иосифа и еще до того как мой очерк появился в печати я исхитрился снова там побывать, на сей раз — на пароходе, летом, чтобы увидеть архипелаг при свете полярного дня. Ребята-ракетчики, с которыми я познакомился в феврале на Хейсе и с которыми возвращался оттуда на самолете, пристроили меня в большую экспедицию, отправлявшуюся на ЗФИ зимовать. На этот раз я не стал просить в Журнале командировку — неловко было, не расплатившись за предыдущую, и я отправился за свой счет. Это ведь недорого — надо было заплатить лишь за железную дорогу Москва-Архангельск-Москва, судно — бесплатно, харч — очень дешево, дешевле московского. Пограничного удостоверения я не добывал, полагая, что под шумок проскочу вместе с большой экспедицией (так и получилось).
Воодушевлению моему поначалу не было границ. Судите сами: полгода назад я доказал всем и вся свое право на возвращение в Арктику; семья и прочее окружающее население начали привыкать к моим вояжам (в промежутке была самостоятельная недельная поездка в Ленинград, в архивы Арктического института), даже тетя Соня махнула рукой и научилась утаивать горестные вздохи; Мишка привыкал к своеобразной «сезонной» безотцовщине, да и безматерщине тоже — Наташа летом уезжала в высокогорные гляциологические экспедиции. Короче говоря, улица передо мною была сплошь зеленая!
Задолго до поездки я уже раззвонил по всем знакомым, что вновь собрался в Арктику. Знакомые, естественно, восторженно охали-ахали, а выезд все задерживался. По мере задержек моя решимость испытывала определенные колебания, временами становилось не по себе от мысли, что можно надолго застрять во льдах или укачаться, и в такие моменты мне уже не хотелось искушать судьбу.
Снова нахлынула на меня тартареновщина, обуяла паника, как и перед зимним полетом. Мне предстоит пересечь на судне Баренцево море с его жуткими штормами либо мертвой зыбью (что ничуть не легче для человека, подверженного неизлечимой морской болезни), многодневная, многонедельная качка — выдержу ли?
Имелась еще одна сторона: непредсказуемость сроков поездки. Судно шло не только на остров Хейса; его экипажу вменялось в обязанность посетить еще несколько точек, особенно те, куда не сумели из-за льдов в предыдущую навигацию доставить уголь и продукты. Следовательно, рейс мог растянуться на сколь угодно длительный срок, не говоря уже о вполне реальной угрозе надолго застрять во льдах. Как, интересно бы узнать, справлюсь я в таком случае с бытом, кто вымоет меня (хотя бы раз в декаду), кто вылечит, если заболею чем-нибудь? Словом, возник тот самый случай, когда становится особо близким и понятным скромное выражение «тесно от мыслей в голове».
Конец терзаниям Тартарена-Каневского положила телеграмма из Обнинска, откуда, из Института экспериментальной метеорологии, и отправлялся на ЗФИ ракетный костяк экспедиции: «Послезавтра надо быть Архангельске тчк сразу выходим рейс». И в тот же вечер, поцеловав тетю Соню (дядя Исай умер незадолго до того), отправив краткое письмо в Крым, где Наташа пасла Мишку перед экспедицией на Полярный Урал, я отправился в знойный, не по-северному, июльско-августовский Архангельск.
Судно и впрямь уже стояло под парами, старенький и не слишком мощный ледокольный пароход «Семен Дежнев», «Семен», или даже «Сенька» на языке членов его экипажа, возглавляемого капитаном с многообещающей фамилией Потеряйло! В порту Бакарица круглосуточно шла погрузка, в которой участвовала вся экспедиция. Визжали свиньи, мычали коровы, которых поднимали в специальных сетях мощные лебедки. Для скотины, шедшей на прокорм зимовщикам, на верхней палубе «Дежнева» были сооружены деревянные загоны-хлевы, тут же лежали тюки спрессованного сена, а ухаживать за животными был призван нанятый в Архангельске скотник. Вот он-то и стал причиной многочасовой задержки.
Когда судно было уже полностью снаряжено в рейс, хватились этого персонажа, без которого, как всем было ясно, выход в море крайне нежелателен. Уход за крупным и в полном смысле слова разношерстным стадом — дело тонкое, и ни один член экипажа ни за какие деньги не согласился бы выполнять эту ответственную (в том числе и материально ответственную) работу. Скотника же — и след простыл! Только что он вертелся на причале, виртуозно материл каждую рогатую либо хрюкающую голову, а тут вдруг исчез. Гонцы-добровольцы ринулись по окрестным шалманам и нашли-таки дезертира трудового фронта, но в состоянии, которое наш замполит в военных лагерях характеризовал так: «Мертвый труп».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: