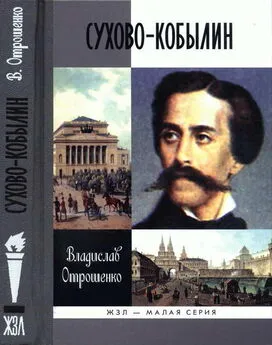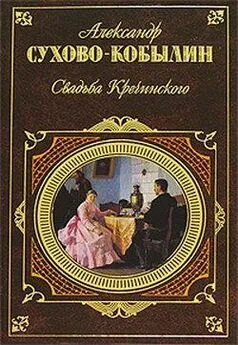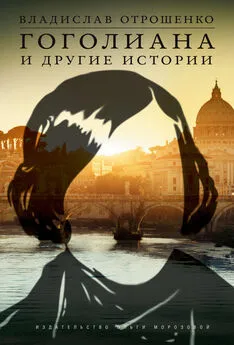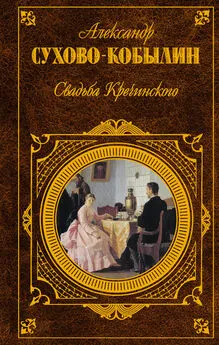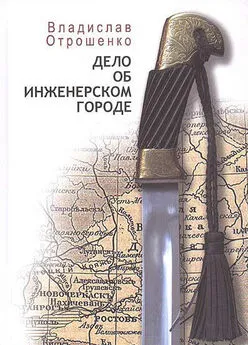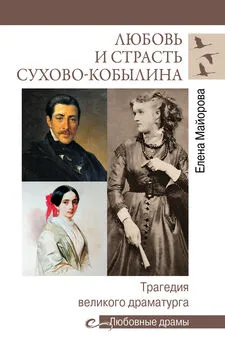Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга
- Название:Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03666-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга краткое содержание
Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903) был, казалось, баловнем судьбы: знатный и богатый барин, статный красавец, великолепный наездник, любимец женщин, удачливый предприниматель, драматург, первой же комедией «Свадьба Кречинского» потрясший столичный театральный мир. Но за подарки судьбы приходилось жестоко расплачиваться: все три пьесы Сухово-Кобылина пробивались на сцену через препоны цензуры, обе жены-иностранки вскоре после свадьбы умерли у него на руках, предприятия пришли в упадок, литературные и философские труды обратились в пепел. Особенно повлияло на его жизнь и творчество беспрецедентное по запутанности и масштабам уголовное дело об убийстве его французской любовницы, в котором он был обвинен.
Совместимость гения и злодейства, воля рока и воля человека, власть случая и власть разума, таинственные пути Провидения и фантастические узоры судьбы — об этом повествует написанная на основе документов и следственных материалов книга Владислава Отрошенко, сплав исторического романа о загадочной жизненной истории с расследованием громкого уголовного преступления.
Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, причину своего «отчуждения от литературных сфер» он никогда не скрывал. В немногочисленных и по большей части случайных интервью (газетные материалы о нем, появлявшиеся в конце XIX века, были похожи на публичные отчеты Императорского археологического общества: вот, дескать, господа, какая диковинная вещица отыскалась в землях Тульской губернии, какая нелепейшая на вид, но хорошо сохранившаяся статуэтка, предмет наивного культа древних эпох, материя темной старины, чудом уцелевшая на необъятных просторах преображенного реформами отечества) он не раз заявлял, что литература представляется ему бюрократической иерархией, что литераторы — это те же чиновники и что он уже имел несчастье числиться по петровской Табели о рангах титулярным советником, чиновником IX класса.
— В литературной Табели о рангах, — говорил он журналистам, — я не желаю быть ни надворным, ни статским, ни даже действительным тайным [25] Гражданские чины соответственно VII, V и II классов. (Прим. ред.)
!
Высказывания его о современных ему писателях и философах были предельно короткими и безапелляционными:
— Шопенгауэр — пустомеля. Толстого я не понимаю. Ницше не читал и читать не желаю. Тургенева не признаю.
Вот так он отвечал на вопросы Беляева, который хотел выяснить, чем «питает» свою «загадочную душу» этот «эгоист идеи», который «проповедовал для себя и исповедовал самого себя».
К Тургеневу Александр Васильевич относился с особой неприязнью. Тот раздражал его не меньше, чем Островский. И так же, как об Островском, он говорил о Тургеневе с язвительной и злобной усмешкой, подбирая самые резкие выражения:
«Читал Тургенева. “Чужой хлеб”. Плохо, пошло, вяло, без ума, без вкуса и без такта. Претензия на чувство, а сердца нет».
Неприятие Тургенева было не только (а может быть, даже и не столько) литературным неприятием. Иван Сергеевич был близким другом графини Салиас де Турнемир, поклонником ее таланта, завсегдатаем ее салона в доме на 1-й Мещерской в Москве. Имя Тургенева у Александра Васильевича было накрепко связано с этим домом и этим ненавистным ему салоном писательницы Евгении Тур, где зимой 1855 года, в дни его блеска и славы, московские литераторы отметили его дебют пощечиной молчания.
Молчали о нем всю его жизнь. У русских писателей XIX века, за исключением Боборыкина, нет суждений о драматурге Сухово-Кобылине. Да и внимание Боборыкина, который встречался с Кобылиным дважды, в 1870-х годах в Петербурге в итальянской опере и в 1890-х в парижской гостинице, было продиктовано особого рода любопытством — любопытством беллетриста, собирающего впрок «художественный материал» и «яркие типы общественности». «Сухово-Кобылин, — признавался он, — оставался для меня, да и вообще для писателей и того времени и позднейших десятилетий как бы невидимкой, некоторым иксом. Он поселился за границей, жил с иностранкой, занимался во Франции хозяйством и разными видами скопидомства, а под конец жизни купил виллу в Больё на Ривьере, после того как он в своей русской усадьбе совсем погорел… Он поражал меня своим бодрым видом, тоном, движениями. А ему тогда было уже чуть ли не под восемьдесят лет. Для меня было интересно поближе приглядеться к такому типу московского барина — писателя, когда-то светского льва, да еще повитого трагической легендой».
Вот так и было: тех литераторов и журналистов, которые с ним встречались, он интересовал в основном как «тип» и «легенда». Литературный же дар его воспринимался как нечто случайное и побочное. И Александр Васильевич чувствовал это, осознавал с горечью. «Очень странное мое литературное современное положение, — писал он. — С одной стороны, симпатия к моим пиэссам большая, популярность их огромная, и, говоря о пиэссах, их постоянно ставят рядом с “Ревизором” и “Горем от ума”, но относительно меня как личности и таланта — совершенное равнодушие, точно эти пиэссы не мои, а так, достались мне по наследству от отдаленного родственника, и будто я, вор, все их только напечатал».
Говорили и такое — обвиняли в воровстве. Утверждали, что «название комедии списано с какого-то малоизвестного французского автора» и что «Сухово-Кобылин никогда не мог написать “Свадьбы Кречинского”, потому что был безграмотен» («Ежегодник Императорских театров», сезон 1905/06 года).
А один критик из журнала «Дело», сличая в 1869 году произведения Сухово-Кобылина, высказался: «Вообще нужно заметить, что между “Свадьбой Кречинского” и другими двумя пьесами существует поразительное несходство: почти невозможно верить, что они написаны одним и тем же автором».
В его «странном» литературном положении просматривалась та непреодолимая закономерность, которая не допускала ничего одностороннего в его судьбе. Он желал быть независимым, и он был независим. Но независимость обернулась забвением — чудовищным забвением, гробом при жизни. Он игнорировал литературный мир и в своих заявлениях выражал явное презрение к литераторам, критикам, журналистам. Литературный мир игнорировал и презирал его. Великому Слепцу была по душе симметрия.
У него конечно же были привязанности в литературе, и не всякого писателя, «живого и мертвого», он поносил, как утверждал Боборыкин.
«Сухово-Кобылин выше всех поэтов ставил Шиллера и Гёте, — говорил в интервью газете «Русское слово» его племянник граф Салиас. — Он относился с большим уважением к Виктору Гюго, Шатобриану, Вольтеру, Руссо».
Великий комедиограф Франции Жан Батист Мольер восхищал его. Он читал и перечитывал его постоянно, называл «единственным и единым комиком» (он никогда не говорил «гений», это слово казалось ему чересчур напыщенным, он говорил «комик» о тех, перед чьим талантом преклонялся, и это вертлявое словечко в его устах звучало возвышенно и серьезно).
Граф Салиас утверждал, что «русской литературой Сухово-Кобылин не интересовался и ничего не читал». В этом была доля истины. Он действительно мало читал русских писателей. Но всё же читал и чтил — тех, кто был ему дорог и близок — близок свойствами таланта. Книги Салтыкова-Щедрина и Гоголя он брал с собой во все поездки по Европе, они никогда не покидали его рабочего стола — ни в Кобылинке, ни в Гайросе, ни в Больё, где он доживал в одиночестве последние годы жизни. Салтыков-Щедрин, с которым Сухово-Кобылин лично не был знаком (о чем сожалел до слез, когда в 1889 году узнал о его смерти), восхищал его, он чувствовал в нем «родственное перо», удивлялся и радовался: «Читаю “Ташкентцы” Салтыкова — замечательное произведение по верности и свободе дикции и верности уязвляемых сторон России. Есть места поразительные, есть кое-что из “Дела”. Заметно и здесь его влияние».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: