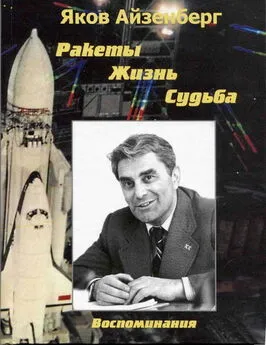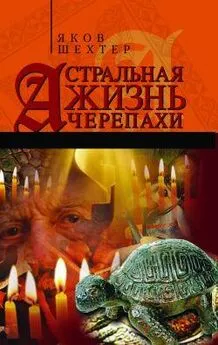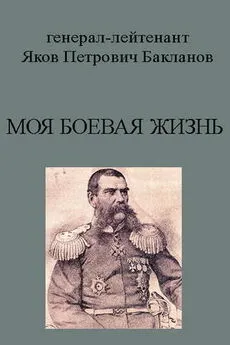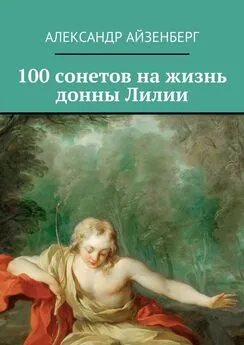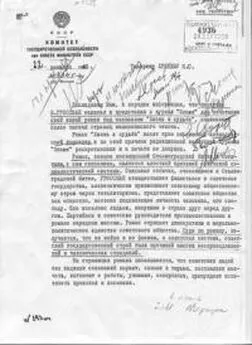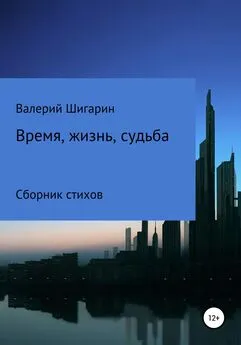Яков Айзенберг - Ракеты. Жизнь. Судьба
- Название:Ракеты. Жизнь. Судьба
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Инвестор
- Год:2010
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-8371-30-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Айзенберг - Ракеты. Жизнь. Судьба краткое содержание
Перед Вами книга воспоминаний выдающегося ученого советской эпохи Якова Ейновича Айзенберга, бывшего Генерального директора харьковского НПО «Хартрон», бывшего Генерального конструктора систем управления ракет и космических аппаратов Украины. Воспоминания охватывают практически весь жизненный период — от школьных лет до отъезда на лечение в Израиль, и в основном посвящены его любимому делу, которому он отдал свою огромную творческую энергию. Семья ученого глубоко признательна и благодарна всем людям, которые сделали возможным издание книги воспоминаний и берегут память о Якове Ейновиче.
Об автореЯков Ейнович Айзенберг (1934–2004), один из видных специалистов в современной космонавтике. Через некоторое время после ухода со своего поста Главного конструктора систем управления В. Г. Сергеева Я. Е. Айзенберг становится Главным конструктором и в течение ряда лет успешно руководит созданием систем управления в составе современных ракетно-космических комплексов.
Ракеты. Жизнь. Судьба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Была назначена самая высокая из всех возможных правительственная комиссия во главе с Л. И. Брежневым, которая, к счастью, пришла к выводу, что виновники погибли при катастрофе, арестовывать и расстреливать никого не нужно. Вот что значит, уже не было в живых «великого вождя», а то бы так просто все не обошлось.
Я по работе не имел никакого, даже теоретического, отношения к аварии, и этом смысле она меня не коснулась.
Но трагедия не повлияла на необходимость продолжения работ и создания МБР 8К64.
Первая задача состояла в назначении руководителя ОКБ-692 вместо погибшего Коноплева, так как мы оказались в этот момент ключевой организацией. На этот раз твердо решили назначить на эту должность профессионала, т.е. работника НИИ-885 или военного из ГУРВО (Главное управление ракетного вооружения РВСН). Однако отношение москвичей к провинциальному, голодному Харькову за это время не изменилось, так что все достойные военные сразу отказались. Точно так поступили и заместители Пилюгина, и выбирать пришлось из сравнительно невысоких чинов, типа начальников лабораторий.
Был выбран (в том числе, с приглашением в ЦК КПСС) начальник лаборатории маятниковых измерителей боковых ускорений (наше ОКБ и не собиралось заниматься такими приборами, так как мы использовали гироскопические измерители НИИ-944) Владимир Григорьевич Сергеев, так что опять предыдущая работа его никак не была связана с новой. Но тут уже ничего не попишешь, ни в министерстве, ни тем более в ЦК в таких вещах никто не разбирался, а во всех других кадровых отношениях Сергеев был фигурой идеальной. Москвич, из рабочих, участник войны не только с Германией, но и с Японией, кандидат технических наук. Что еще нужно, чтобы быть руководителем вновь созданного гигантского ОКБ. Хотелось бы, чтобы у него был опыт руководящей работы на более высокой, чем начлаб должности, но с этих должностей в Харьков из Москвы никто не хотел уезжать. Я проработал с Владимиром Григорьевичем четверть века, причем большую часть этого времени в качестве его заместителя.
Сергеев с семьей (жена Мария Васильевна и два сына) приехали в Харьков, и он приступил к работе. Сначала он никого не менял (это в полной мере было им сделано много лет спустя и не по производственным причинам), а проявил огромную работоспособность, работая фактически сутками напролет и вдохновляя тем самым своих сотрудников на такой же самоотверженный труд.
Проблема устойчивости
Следующая ракета на заводе №586 была готова, наша аппаратура скрупулезно оценена, и еще раз установлено, что причиной аварии были не ее дефекты, а нарушение технологии работ.
Сергеев, прихватив меня, так как речь шла о пуске ракеты, т.е. о работе, в первую очередь, системы стабилизации движения, чем занималась моя все еще группа (в конце концов, при его вмешательстве спустя пару лет меня назначили начальником лаборатории), отправился на Байконур, и мы начали готовить к пуску вторую ракету 8К64.
Но наши неприятности были еще впереди, и, если к катастрофе 24 октября наша группа отношения не имела, то последующие две аварии практически целиком на нашей совести, правда, они обошлись без человеческих жертв, хотя отсутствие у нас знаний и опыта сказалось в полной мере.
Единственными нашими «соучастниками» в этом деле были динамики Днепропетровска, но отсутствие квалификации у них с нас вины не снимает.
Вторая ракета была пущена без всяких эксцессов на старте (откуда теперь были беспощадно изгнаны все ненужные сотрудники всех фирм), нормально, хорошо пролетела вся первая ступень, а со второй что-то случилось, и на Камчатку она не пришла. Редкий случай, когда после пуска разработчики так ничего и не поняли в причинах неудачи.
Чтобы это объяснить, нужно очередной раз перейти к техническим подробностям, хотя я постараюсь изложить все попроще.
Единственный способ (тогда и сейчас) узнать, что происходит на борту ракеты в полете, это разобраться в так называемой телеметрической информации. На этапе летно-конструкторских испытаний на ракете, главным образом, в системе управления установлено большое число измерительных датчиков, информация с которых поступает на бортовые согласующие устройства, а от них по специальной радиолинии передается на Землю. Это и есть система телеметрического контроля (СТК), непременная принадлежность каждой ракеты, пускаемой с полигона. Конечно, вся СТК установлена и проверена на заводе-сборщике ракеты (разрабатывал все эти приборы — и бортовые, и наземные специальный институт нашего министерства, расположенный в том же Калининграде).
На наше «счастье», кроме неприятностей со второй ступенью при пуске отказала и СТК, так что мы остались без всякой информации с борта ракеты. Можно было только гадать, чем мы некоторое время и занимались, но в результате пришли к единственному возможному выводу — надо повторить пуск. Если первый раз был случайный производственный дефект, мы так и не узнаем его причины (ну и черт с ним), а если что-то неслучайное, оно повторится, и мы поймем, в чем дело, ведь не может СТК отказать еще раз.
Пуск повторили, СТК работала, полет второй ступени снова оказался неудачным, но теперь была возможность разобраться, в чем дело. Вопрос оказался достаточно сложным, тем более что на практике советская ракетная техника столкнулась с ним впервые. И снова требуются технические пояснения.
Речь идет о хорошо известном с того самого времени эффекте влияния колебаний свободной поверхности жидкого наполнения, т.е. попросту говоря топлива в баках ракеты в полете.
В принципе есть аналогия, когда хозяйка несет полные ведра с водой на коромысле. Чтобы предохранить воду от расплескивания, она подбирает ритм ходьбы (борьба с первым тоном колебаний) и кладет сверху деревянные кружки, чтобы ограничить подвижность свободной поверхности жидкости (борьба со вторым тоном колебаний). Это, конечно, очень грубая аналогия, вторым тоном колебаний жидкости для ракет можно пренебречь, а вот с первым дело обстоит хуже. Ведь в баках находятся десятки тонн жидкости, свободная поверхность из-за расхода топлива в полете образуется, а темп движения задается параметрами двигателя и геометрией ракеты, воздействовать на него практически невозможно. Такие колебания могут приобрести значительную амплитуду, и их влияние на движение ракеты может оказаться настолько значительным, что приведет к потере устойчивости этого движения. Теоретически после работ двух специалистов НИИ-4 Минобороны Г. С. Нариманова и Б. И. Рабиновича это механикам было ясно, но так как на практике этот эффект не проявлялся, о нем только в книгах и писали. Существенно, что проявляется он преимущественно на вторых ступенях ракет (пояснение этого уведет нас далеко от темы), вторая ступень 8К64 явилась этому наглядным подтверждением.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: