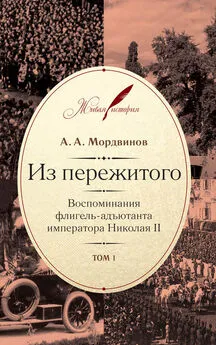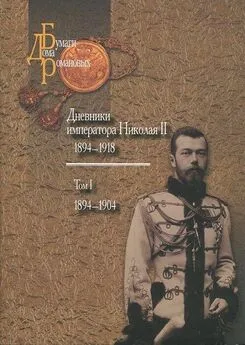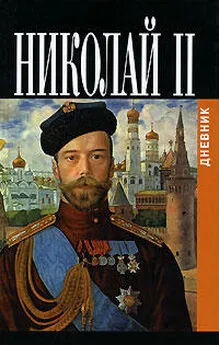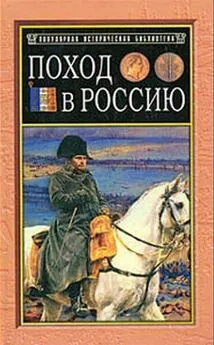Анатолий Мордвинов - Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 1
- Название:Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кучково поле
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0413-4, 978-5-9950-0414-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Мордвинов - Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 1 краткое содержание
В книге впервые в полном объеме публикуются воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II А. А. Мордвинова.
Первая часть «На военно-придворной службе охватывает период до начала Первой мировой войны и посвящена детству, обучению в кадетском корпусе, истории семьи Мордвиновых, службе в качестве личного адъютанта великого князя Михаила Александровича, а впоследствии Николая II. Особое место в мемуарах отведено его общению с членами императорской семьи в неформальной обстановке, что позволило А. А. Мордвинову искренне полюбить тех, кому он служил верой и правдой с преданностью, сохраненной в его сердце до смерти.
Издание расширяет и дополняет круг источников по истории России начала XX века, Дома Романовых, последнего императора Николая II и одной из самых трагических страниц – его отречения и гибели монархии.
Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, благодаря тысячи мелких «случайностей» европейской войны могло бы и не быть, но к тысячи других, таких же ничтожностей и уловок, с удивительной легкостью толкнули людей на взаимное истребление.
Снова спрашиваю себя: значит ли это, что человечеству и впредь будет не под силу бороться хотя бы со своими военными страстями?
Ответ опять как будто напрашивается самый неутешительный. Во всяком случае, до тех пор, пока христианство будет исповедоваться государствами лишь наружно, а также будут иметься государства и не христианские, войны среди них будут существовать, и никакой иной силой их не предотвратить.
Без внутреннего разоружения простое отнятие от людей пушек, ружей, аэропланов, броненосцев и т. п. ни к чему новому, мирному и благородному, к несчастью, не приведет или приведет лишь временно. В конце концов, не имея усовершенствованного оружия и ядовитых газов, они схватятся за вилы, косы и топоры. Найдется сила (сомнительно), которая отнимет у них и это, они вооружатся, как Каин, камнем или дубиной. Отнимут от них и дубины, у них все же останутся зубы и кулаки…
Итак, война! Вспоминая то время, когда она началась, я поражен, насколько я, окончивший все же военную академию, плохо тогда разбирался в ее возможностях и ее огромных последствиях. Не только я, но и ученые «знатоки» военного дела, как и люди, посвященные во все тайны политики, финансов и военного министерства, не уступали мне в наивности своих выводов и своих мечтаний…
Впрочем, это бывало всегда в порядке вещей, объясняясь не только горячим патриотизмом, но и своего рода невольным подбадриванием. Никто не верил, что война продолжится более года, а многие убежденно, на основании теорий, примеров и разных денежных расчетов доказывали, что через 6 недель с нею непременно должно быть покончено.
Возможность затянутой, позиционной войны отвергалась совершенно как смешная в наше время. И все ошибались – как в размерах несчастья, так и в сроках.
Война длилась свыше 4 лет. Поглотила в себя 60 миллионов мобилизованного населения, из них 10 миллионов убитых и 30 миллионов раненых; уничтожила бесчисленное количество неповинных людей и на 110 миллиардов ценностей и заставила рушиться 30 больших и малых престолов! 233
Наш «Великий XX век» был действительно велик по своим непревзойденным преступлениям…
XXIV
Выехал я тогда из своего Лашина на дежурство при государе ночью 21 июля 1914 года. Мучительное, тревожное состояние из-за полной неизвестности меня не покидало.
Первая почтовая станция «Васильково», на которой перепрягали лошадей, находилась в глухом сосновом бору. Она не имела ни почтового отделения, ни телеграфа. Все же кое-какие новости дошли и туда. Знакомый мне ямщик Шоля, всегда очень необщительный, интересовавшийся ранее только своими «конями» и вином, сделался вдруг разговорчив и сообщил мне, что «какой-то проезжающий из Питера говорил ему, что не мы одни деремся теперь с немцами, а что и другие «царства» идут к нам на подмогу».
Кто эти другие, он назвать мне не мог, а только с довольством добавил:
– Ну, теперь как пить дать немцу будет крышка… чаво к нам суешься, коли не зовут!
На одной из следующих станций я нашел только оторванный клочок «Биржевых ведомостей», в котором кратко говорилось о вручении германским послом нам ноты с объявлением войны и что союзная с Германией Австрия продолжает не прерывать с нами сношений.
Это последнее меня особенно удивило и спутало.
Станция Николаевской железной дороги Чудово, куда я прибыл за несколько минут до отхода поезда, походила уже на военный лагерь. Она была переполнена запасными и офицерами. Пробираясь торопливо к своему вагону, я столкнулся со знакомым офицером, кирасиром Его Величества, ехавшим по мобилизационному расписанию за приемкой лошадей. Не зная точно, где находится государь, и предполагая, что Ее Величество в эти дни уже выехала из Петергофа в Царское Село или даже в Петербург, я спросил его об этом прежде всего.
– Я и сам не знаю, – отвечал он, – знаю только, что у нас в Царском Селе государя нет. Да и вряд ли он останется в Петергофе или переехал в Зимний дворец. Когда я уезжал, то усиленно говорили, что дворец переезжает или даже уже переехал в Москву, так как близость Петербурга к морю, на котором германский флот сильнее нашего, далеко не безопасна. Говорят, что сделано уже распоряжение все ценности из дворцов и Эрмитажа также перевезти на время войны куда-нибудь в более верное место. Я советую вам, поезжайте прямо в Москву. Государь, наверное, там.
Но и на этот раз людская молва о «намерениях двора» была ошибочна. Приехав к себе через Тосно в Гатчинский дворец, я узнал по телефону, что государь продолжал спокойно жить в Петергофе, на самом берегу моря, и предполагал лишь на день выехать в Москву для объявления там, по обычаю, манифеста.
Так как железные дороги ходили по мобилизационному графику, а попасть в дачные поезда можно было тогда только силой, то, чтобы не опоздать на дежурство, я решил выехать в Петергоф накануне, в тот же вечер, что мне и удалось, стоя на подножке вагона со своим чемоданом.
На вокзале в Петергофе я столкнулся с генералом Комаровым, командиром собственного Его Величества полка, – первым человеком, который мог мне сказать что-нибудь более определенное о событиях.
Он довез меня в своей придворной карете до дворца.
– Скажите, как же все это случилось и так неожиданно скоро? – спросил я его. Он развел только руками.
– Никто ничего не понимает, и сам государь не понимает, – отвечал он. – Всю кашу заварила, конечно, Австрия, а вместо нее Германия объявляет нам вдруг войну, а сама Австрия молчит и находится с нами в мире! Да и Вильгельм сам запутался. Его посланник объявил нам войну, а вечером, уже после этого, государь получил телеграмму из Берлина, где Вильгельм указывает, что теперь только от одной России зависит сохранить мир, и заклинает, чтобы наши войска не переходили границу 234. Раньше немцы требовали, чтобы мы демобилизировались, а как демобилизироваться, когда Австрия первая стала бомбардировать Белград, несмотря на наше предупреждение.
Об этой удивительной по времени ее отослания телеграмме более подробно рассказал мне на следующий день и сам государь. Телеграмма эта пришла поздней ночью, на наше 20 июля, несколько часов спустя после объявления нам войны Германией. Государь находился уже в ванне, чтобы идти спать, и камердинер, зная от телеграфиста, что телеграмма от императора Вильгельма, не желал обождать нескольких минут и принес ее в ванную комнату. Помню, что я тогда высказывал мнение, что все это настолько странно, что единственно можно предположить только два обстоятельства: или Вильгельм II лично не знал, что его правительство через посланника уже поспешило объявить нам войну, или что телеграмма германского императора была послана еще днем, до этого события, и благодаря воцарившейся в Берлине суматохе и переполнению телеграфа пришла к нам так поздно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: