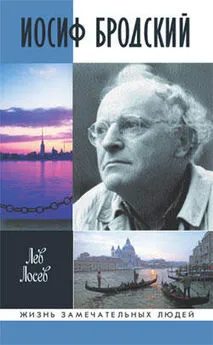Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского
- Название:Как работает стихотворение Бродского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-177-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского краткое содержание
Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.
Как работает стихотворение Бродского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наиболее разнообразным трансформациям в тропах подвергается в стихах Бродского самое частотное и самое объемное понятие — «жизнь» (384 раза). Оно может быть и персонифицировано: «Как странно обнаружить на часах / всю жизнь свою с разжатыми руками» (I: 110); и овеществлено: «Жизнь — форма времени» (И: 361). Эти два крайних преобразования жизни могут быть совмещены: «Жизнь, которой, / как дареной вещи, не смотрят в пасть, / обнажает зубы при каждой встрече» (II: 415), или редуцированы до речи: «Жизнь — только разговор перед лицом / молчанья <���…> Речь сумерек с расплывшимся концом» (II: 127); «вся жизнь как нетвердая честная фраза» (II: 324). «Жизнь» вбирает в себя классические аллюзии: «В сумрачный лес середины / жизни — в зимнюю ночь, Дантову шагу вторя» (I: 309) и современную семантику: «Жизнь есть товар на вынос: / торса, пениса, лба. / И географии примесь / к времени есть судьба» (II: 457). Мотив затянувшейся жизни — «Жизнь моя затянулась» (III: 13, 15) — варьируется в «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной» [226] Замена прилагательного времени «долгой» прилагательным пространства «длинной» вписывается в интерпретацию Бродским времени как пространства. Следуя архетипической модели Пушкина, век русского поэта короче 40 лет.
. «Жизнь» у Бродского часто трактуется в религиозном и философском планах: «Скажи, душа, как выглядела жизнь» (I: 355). Будучи столь центральным концептуально, слово «жизнь» оказывается в центральной части стихотворения.
Все три метонимии «связки, звуки, рот» в поэзии Бродского нередко выступают как метонимия песни (I: 303, 307, 325), поэзии и речи вообще, «продиктованной ртом» (II: 330).
Вот почему «рот», «эта рана Фомы» (II: 325), нередко сопровождается глаголами «открывает рот» (I: 131), «открыть рот» (II: 270), «раскроешь рот» (I: 401), причастием «разинутый рот» (I: 341). Слово «связки» («Это развивает связки», II: 364) — это своего рода метонимия метонимии голоса и горла: «горло поет о возрасте» (II: 290), а также синоним звука. Сам «звук» в этом стихотворении, как и в других, написанных до 1980 года, может означать интонацию, мелодию, даже жанр стихотворения: «и городских элегий новый звук» (I: 109); «Нет, не посетует Муза, / если напев заурядный, / звук, безразличный для вкуса, / с лиры сорвется нарядной» (I: 253). «Звук» — иногда единственное, что связывает поэта с жизнью: «Здесь, захороненный живьем, / я в сумерках брожу жнивьем, / <���…> без памяти, с одним каким-то звуком» (I: 386). «Звук» одухотворяется и концептуализируется: «от <���…> любви / звука к смыслу» (II: 329); «Сиротство / звука, Томас, есть речь» (II: 330), «устремляясь ввысь, / звук скидывает балласт» (II: 451). Со «звуком» имеется полная самоидентификация в стихотворении 1978 года: «Я был скорее звуком» (II: 450). Не случайно, что именно эта строчка наиболее фонетически организованна: «Позволял своим связкам все звуки…» Другие аллитерации менее заметны: «клетку» — «кликуху», «Бросил страну, что меня вскормила», «вороненый зрачок», «перешел на шепот».
Помещение тропов, замещающих поэта и поэзию, в середину стихотворения рядом с личными местоимениями «я», «меня», «мне» придает центру текста ту же семантическую упругость и многозначность, которой наделены правая и левая его части. Метонимии «рта» и «зрачка» фигурируют впервые в стихотворении 1964 года «К Северному краю», написанном вскоре по приезде в ссылку на Север: «Северный край, укрой. <���…> / И оставь лишь зрачок <���…> / Спрячь и зажми мне рот!» (I: 327). «Зрачок» рифмуется с «волчок» в другом стихотворении 1964 года (I: 336), с той же семантикой, что и метафора «зрачок конвоя». «Зрачок», как и «рот», входит в основной словарь поэзии Бродского: «и, зрачок о Фонтанку слепя, / я дроблю себя на сто» (И: 257) [227] Обнаруженная нами высокая частотность сна (1:71, 78, 98, 179, 365, 401, 417, 419, 427, 428, 441, 445; И: 7, 62, 65, 77, 97, 102–104, 121, 123–125, 138, 161, 204, 238, 246, 298, 301, 307, 309–310, 320, 326, 330, 359, 385, 420, 432, 426, 447, 454; 111:10, 12, 15) подтверждается данными Т. Патеры: всего глагол «спать» встречается 147 раз, 2 раза «спалось» и «спится» и 158 раз «сон» и 2 раза «сонливый». Тема сна заслуживает отдельного исследования и в свете высказываний самого поэта: «Пищей всех / снов служит прошлое» (из неопубликованного).
.
Вариант метафоры «хлеб изгнанья» [228] Эту метафору можно также истолковать как поклон Стивену Спендеру (Stephen Spender), написавшему одну из самых хвалебных рецензий на его первый английский сборник стихов «Selected Poems» (Penguin, 1973), «Хлеб горечи» («Bread of Affliction». — New Statesman. 1973. 14 December. P. 915–916): «Бродский — один из тех, кто отведал крайне горький хлеб, и в его поэзии чувствуется, как он его пережевывает. Он смотрит на вещи с точки зрения явно христианской, как человек, жадно проглотивший хлеб и горечь святого причастия…» («Brodsky is someone who has tasted extremely bitter bread and his poetry has the air of being ground out between his teeth. He sees things from a point of view which is ultimately that of Christians who have devoured bread and gall as the sacraments of the Mass…»).
находим в стихотворении 1964 года, написанном 25 марта в Архангельской пересылочной тюрьме, «Сжимающий пайку изгнанья» (I: 319). Оба варианта («жрал хлеб изгнания») вобрали в себя фразеологизм «горек хлеб изгнанья» и прочитываются как «с жадностью ел горькое» в тюрьме, в ссылке, в изгнании. Повторяемость мотива изгнания проходит несколько стадий: от пророческого «хлебну изгнаннической чаши» (I: 152) через пережитое: «Ведь каждый, кто в изгнаньи тосковал» (I: 334) до остраненного: «войной или изгнанием певца / доказывая подлинность эпохи» (I: 372) [229] См. также: «Я ждал изгнания» (из неопубликованного). Частотный словарь называет 18 случаев употребления данной словоформы.
и универсального: «намекает глухо, спустя века, на / причину изгнанья» (II: 383) [230] Не следует упускать из виду и юмористическое отношение Бродского с самым серьезным темам, включая изгнание: «Я так к тебе привык, свеча изгнанья, / ты озаряешь уголки сознанья» (из неопубликованного).
. Последняя цитата из стихотворения 1976 года «Декабрь во Флоренции» содержит аллюзии из Данте. Не столь прямые отсылки к Данте присутствуют и в «Я входил <���…>», как к метафоре «хлеб изгнанья», так и в «бросил страну, что меня вскормила».
Ты бросишь все, к чему твои желанья
Стремились нежно; эту язву нам
Всего быстрей наносит лук изгнанья.
Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням [231] Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М. Лозинского. М., 1967. С. 448. Рай, Песнь 17: 55–60. Показателен и другой общий словарь с великой поэмой Данте, но не с «Раем», а с «Адом»; ср. у Данте: «дикий лес» (I: 5), «я вошел туда» (I: 10), «Вспять обернулся, озирая путь» (I: 26), «При виде зверя» (I: 43), «Смотри, как этот зверь меня стеснил» (I: 88), «И ты услышишь вопли исступленья» (I: 115), «Как зверь, когда мерещится ему» (II: 48), «Никто поспешней не бежал от горя» (II: 109), «От зверя спас тебя» (II: 119), «ропот дикий» (III: 25), «И словно воет глубина морская» (V: 29), «А те под ливнем воют, словно суки» (VI: 19), «Так рухнул зверь» (VII: 15), «с воплем вечным» (VII: 27), «Что я поднесь благодарю Творца» (VIII: 60), «Сквозь черный воздух» (IX: 6), «И зверь и пастырь от него бежит» (IX: 72), «Звук твоих речей» (X: 28), «Казалось, Ад с презреньем озирал» (X: 33), «Хоть изгнаны» (X: 49) и т. д. особенно часто повторяются: зверь, вопль, вой, город, сон, черный, жизнь, жил, озирал, изгнан. Столь густое лексическое поле отсылок к Данте придает теме изгнания поэта универсальный характер.
.
Интервал:
Закладка: