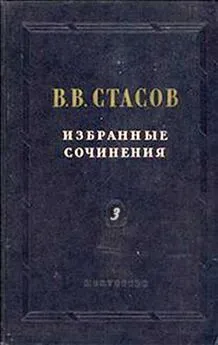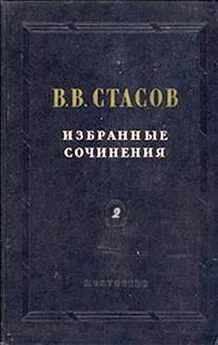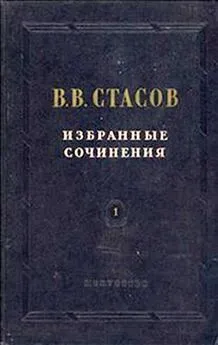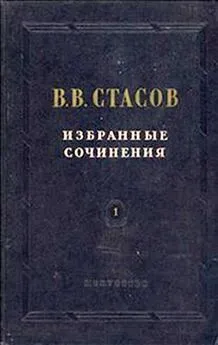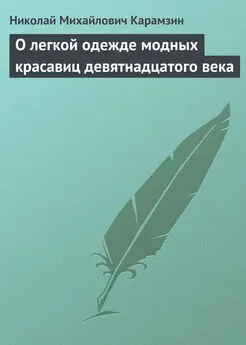Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века
- Название:Искусство девятнадцатого века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство Искусство
- Год:1952
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века краткое содержание
историк искусства и литературы, музыкальный и художественный критик и археолог.
Искусство девятнадцатого века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По характерности и национальности типов, по разнообразию натуры, по глубине крестьянской психологии следует, мне кажется, признать лучшею и важнейшею картиною Кнауса его «Совещание шварцвальдских мужиков» (1872).
Достойными товарищами, по трактуемым ими задачам и творчеству, являются Вотье и Деффрегер, первый — швейцарец, второй — тиролец родом. Оба они прожили всю свою жизнь вне своего настоящего отечества: Вотье (начиная с юношеских лет) в Дюссельдорфе, Деффрегер в Мюнхене, но впечатления детства и юности залегли так глубоко в их душу, что в продолжение многих десятков лет они имели возможность высказывать их в картинах своих во всей их силе и свежести.
Подобно тому, как это было у Кнауса, талант Вотье не носил в себе элемента трагичности и сильных душевных движений. Художник всегда оставлял в стороне все невзгоды, тяготы и несчастия крестьянской жизни. Его удел был: выражать национальную типичность, народные характеры в том, что они заключают счастливого, хорошего, простого, оригинального, здорового, доброго, сердечного, преданного, любящего. Все это Вотье выражал с необыкновенною верностью, меткостью, тонкостью, юмором и часто — трогательностью. Но колоритом своим, впрочем изящным, он никогда особенно не блистал и не искал (говорят, умышленно) извлекать из него блестящих эффектов. Картины его все писаны на сюжеты то из швейцарской, то из шварцвальдской жизни — последние после переезда его (1850) навсегда в Дюссельдорф. Лучшие его картины: «Мужики, играющие в карты и застигнутые в шинке своими женами, возвращающимися из церкви» (1862), «Мужик и делец: последний уговаривает его на продажу земли, он задумался, а жена отсоветует» (1863), «Поминки в доме умершего» (1865), «Первый урок танцев в шварцвальдской избе» (1868), «Похороны» (1872), «Прощание невесты с отцовским домом» (1875), «Перед заседанием волостного суда» (1876), «Судящиеся мужики» (1877), сердитые, озлобленные. Эта последняя картина глубоко замечательна своею необычайною характеристикой действующих лиц. Но едва ли не единственною, сколько-нибудь драматическою и со взволнованным чувством картиною можно признать его «Прерванную свалку в шинке», где противники на секунду остановились, но стоят друг против друга сердитые, окрысившиеся, словно петухи, и готовы тотчас снова броситься друг на дружку. Слабые же стороны Вотье, проглядывающие иногда среди верного и простого выражения, это — сентиментальность и некоторая сахарность типов и чувства.
32
В мюнхенской школе ученик Пилоти тиролец Деффрегер проявил истинный и значительный талант в изображении близко знакомых ему и дорогих тирольцев, сцен из их жизни, будничных, ежедневных, но высокоинтересных маленьких событий, ярко выставляющих всем на вид характер, душевную физиономию, нравы, дух мало кому известного и никогда прежде не представленного в искусстве чернолесного племени. Лучшая и важнейшая его картина «Последнее ополчение» (Das letzte Ausgebot) представляет толпу стариков-тирольцев, вооружившихся чем попало и с отчаянною решимостью идущих помогать своему войску во время дикого нашествия Наполеона I. Картина эта — небольших размеров, как и большинство картин Деффрегера, но она полна такого глубокого чувства, такой искренности, такой правдивой характеристики, что стоит гораздо больше, чем множество прославленных так называемых «исторических» картин. Другие картины на сюжеты из той же национальной войны, со сценами из героических деяний национальных героев, Андрея Гофера и Шпекбахера, удались художнику, к удивлению, несравненно менее (хотя он именно с них начал свое композиторство и, значит, особенно был этими сюжетами наполнен). Единственное исключение составляет одна, самая первая по времени картина: «Десятилетний сын Шпекбахера, вопреки запрещению отца отправившийся добровольцем на войну, натыкается со своими товарищами на отца, который держит военный совет в избе». Эта картина была так талантлива, так жива и правдива, что когда появилась на свет в 1868 году, то Деффрегер (только что кончивший школу у Пилоти в Мюнхене) в несколько дней разом сделался знаменитостью.
Деффрегер гораздо менее Вотье глубок, гораздо менее его многообъемлющ и разнообразен, но столько же национален и правдив, такой же тонкий наблюдатель натур и характеров, такой же прекрасный изобразитель лучших и светлейших сторон своих деревенских соотечественников, их семейственности, простоты, душевности, приветливости, иногда юмора и лукавства. У него улыбка не сходит с лица. Особенно замечательны между многочисленными его картинами: «Раненый охотник» (1864), «Борцы-тирольцы» и «Братцы» (тот, что постарше, воротился из городской гимназии) (1869), «Певцы-нищие» (1871), грациозная и комическая «Пляска в альпийской избушке» (1870), представляющая старика-тирольца, схватившего молодую девушку и отплясывающего с нею, в пример молодежи, тогда как она, озираясь на окружающих, подтрунивает над ним, «Прощание с альпийской пастушкой», «Музыкант на цитре», «Сватовство», «Галантерейный тиролец» (1882). Недостатки Деффрегера одного сорта с недостатками Вотье — некоторая сентиментальность и излишняя сладость и красивость типов. Точно будто Тироль, Швейцария и Шварцвальд только и населены, что красавицами и красавчиками. Многочисленные этюды Вотье и Кнауса наполнены изящными лицами и фигурами красивых молодых людей, мужчин и женщин (всего чаще девочек), встреченных ими во время путешествия их. Какая Аркадия! Заметим при этом, что, вследствие своего всегдашнего жизнерадостного чувства, своего вечного оптимизма, Деффрегер никогда не брал задачами для своих картин ни смерть, ни похороны.
Кроме Деффрегера, из школы Пилоти вышло еще много других «народников». Таковы: Эберле, Шмид, Габль, Курцбауэр, Вопфнер, Раупп; некоторые из них были тем своеобразны, что являлись оптимистами менее Вотье и Деффрегера и трактовали не раз со значительным талантом не только счастливые и милые, идиллические, но иногда и печальные и даже мрачные сцены из народной деревенской жизни.
К числу учеников Пилоти принадлежит также Грюцнер, имевший одно время немалый успех в Германии своими картинами с изображениями, на сто разных манеров, католических монахов, развеселых, жирных, наедающихся и напивающихся в монастырских погребах, столовых и кельях. Но этот ограниченный род сюжетов, несмотря на известную техническую и колоритную ловкость художника, скоро прискучил и вышел из моды.
33
В свое лучшее время Пилоти славился, кроме своей «историчности», также и своим «колоритом», выработавшимся у него вследствие прилежного изучения Рубенса, ван Дейка и венецианцев. Но его колорит только показался тогда «очень хорошим», а не был им действительно, и многие из его учеников сильно обогнали его в этом отношении, например, Макс, Ленбах, Брандт и всех более Макарт. И этому нельзя не удивляться. Казалось бы, чего следовало ожидать от учеников Пилоти? Конечно, картин исторических, потому что сам учитель весь век ими сам занимался и, значит, ими должен был влиять на своих учеников. Но этого не случилось: ни один из воспитанников Пилоти не вышел из его классов «историком» и не прославился по этой части. Единственное исключение составляет группа талантливых поляков, уверовавших в Пилоти и в продолжение многих лет приезжавших в Мюнхен учиться у него художественному уму-разуму. Ни один из них тоже не вышел «историком» в смысле своего патрона, и все они, Брандт, Геримский, Хельминский и другие, приобрели в мюнхенской школе только отличное техническое умение и мастерство, писали же все только картины военные или охотничьи, и притом все только польские, т. е. не имеющие ничего общего с Пилоти и его творчеством. Казаки и уланы Брандта, дома и на войне, в боях с татарами, шведами и турками, в степи, в лесу, в поле, остановки на отдыхе у шинков; старинные охоты польских магнатов Геримского и Хельминского — все это картины с блестящим письмом, искренно национальные, ничуть не растерявшие в немецкой школе своих характерных основ и потому очень оригинальные и своеобразные; наконец, вдобавок ко всему и в виде исключения, сцены из жизни евреев в Польше, например, превосходная картина Геримского «Евреи, молящиеся вечером над Вислой». Присущий им часто военный элемент глубоко лежал в основе польского характера, и потому-то, конечно, польские живописцы еще более учились в Мюнхене у баварского лучшего тогда баталиста Франца Адама, чем у Пилоти, притом же все они были под сильным влиянием французской новой школы. Таким образом, за исключением этой специальной польской группы, из школы Пилоти не произошло никаких исторических живописцев. Вышли оттуда художники совершенно другого склада: художники по преимуществу колористы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: