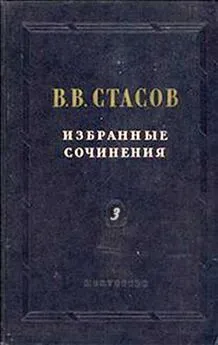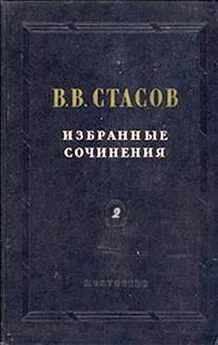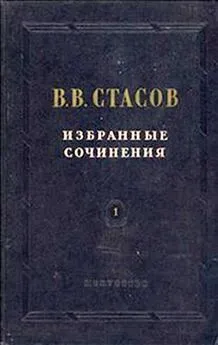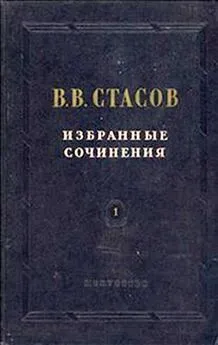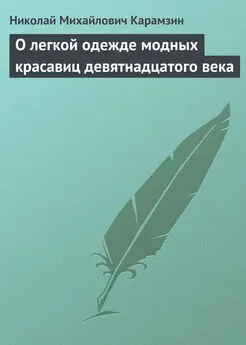Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века
- Название:Искусство девятнадцатого века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство Искусство
- Год:1952
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века краткое содержание
историк искусства и литературы, музыкальный и художественный критик и археолог.
Искусство девятнадцатого века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это была великая ошибка с его стороны. К изображению живых существ, как людей, так и животных, но также и к изображению живой действительной природы, такой, какая существует на свете, он не имел никакого стремления, существующие в природе формы вовсе не интересовали его, он не хотел их изучать и желал только одного: сочинять и рисовать такие человеческие и животные формы, такие пейзажи, каких на свете нет и не бывало, но которые существовали в его воображении. Ему все существующее казалось милым и неудовлетворительным, вся действительность была для него трын-трава, точь-в-точь как для Делакруа за четверть века раньше: ему нужны были всего более, можно даже сказать, исключительно, только фантазии, выдумки, небывальщины, ими-то он занимался весь свой век. Приехав в Италию, он всего более был восхищен не настоящими созданиями великих художников прежнего времени, а фантастическими орнаментами, из людей и растений, в «Ложах» Рафаэля и орнаментами того же: рода в Помпее. Он считал их выше всего в искусстве. Вследствие того ему нужны были, во-первых, более всего только нереиды, наяды, сирены, нимфы, дриады, драконы, центавры, тритоны, сатиры; потом разные божества старинной греческой мифологии; наконец, разнообразные аллегории, созданные его собственным воображением. Что же касается пейзажа, то он точно так же не изображал то, что существует прекрасного, величественного, грациозного или ужасного, страшного в природе, но то, что ему нравилось в его фантазии, то, что он сам выдумал, то, что он желал бы, чтобы существовало. Он, так сказать, как портной или портниха, выдумывал свои собственные «моды» для природы. Аллегорические и мифологические фигуры никогда не исчезали из обихода европейского искусства; они в течение многих столетий присутствовали в нем, по старым привычкам и по какой-то нравственной лени, но зритель их только снисходительно терпел, встречая на картине или архитектурном здании, в скульптуре, и то в виде редких исключений, ради традиции школ, академий, где их тщательно проповедывали и оберегали. Всем здравомыслящим людям как будто была неохота заводить длинную и скучную войну с такими явными пустяками и нелепицами, и их, скрепя сердце, терпели.
Но теперь вдруг пошло совсем другое. Аллегории и мифологии стали появляться уж не в виде редких, терпимых кое-как исключений, а двинулись целыми полками, армиями, стадами, явились чем-то постоянным, нескончаемым, вполне законным, стали казаться чем-то драгоценным, нужным, желанным; их начали считать выражением великих идей и постижений нового времени, и это особливо в Германии! В них стали искать и находить «необычайные откровения тайн природы, воплощение вековечных загадок и разгадок мира…» Итак, все фавны, сатиры, нереиды, наяды и прочие существа — не выдумка, не условность, не остаток младенческих верований диких народов, а что-то действительное, важное, глубокое, обязательное для каждого из нас и в настоящую минуту? Какое безумие! Какое сумасшествие! Но картины Бёклина именно это самое безумие и проповедывали. Они словно преобразились в глазах у германской публики. Они получили неожиданное значение. Их автор был у многих признан великим «пантеистом», глубоким понимателем и изобразителем природы; был признан тем гениальным художником, — которого давно надо: было Европе, но который все не являлся, заслоненный сонмом ненужных и зловредных реалистов, — человеком, который, наконец, возвратил миру давно спрятанные от него невеждами сокровища — сверхчеловеческие существа, «возвышающиеся над прозою и ничтожеством мира». А эти сверхчеловеческие существа были половинки лошадей, козлов, рыб, птиц, соединенные с половинками человека. Какая счастливая находка! Но что же из всех этих нелепых существ делал Бёклин, на что он употреблял их в своих картинах? Как человек очень ограниченный, но талантливый, он употреблял их единственно на то, чтобы эти сверхчеловеки обнимались с действительными человеками или друг с другом, чтобы сатиры и фавны хватали женщин в лесу или в поле; чтоб тритоны цеплялись за плещущихся в море нереид; чтобы наяды в отчаянии изнывали над голыми утопленниками, прекрасными юношами, чтобы толстенькие русалочки кувыркались в воде перед морскими чудищами и приводили их в восторг; чтобы сатиры вытаскивали в сетке, из воды, как сельдей или щук, таких же наяд и млели, глядя на них; чтобы звери-центавры хватали и уносили на своих спинах каких-то лесных нимф. Где же тут великие таинства природы, где великое новое «слово», где «искусство», где неизреченные глубины духа, до сих пор не известные? Стоило из-за таких недостойных глупостей и постыдных нелепостей поднимать поход против реализма и правды, истории и будничной жизни! Какая драгоценная замена! В чем же тут новые чувства, мысли, идеи? Что мы такое приобрели от всей этой безалаберщины?
Можно было бы помириться с этими смешными игрушками, если бы на них все и смотрели как на игрушки, не имеющие сами в себе никакого действительного значения и не приносящие никому и ничему ни малейшего вреда. Но в том-то и беда, что игрушки именно приносили огромный вред Бёклин был, по натуре своей, превосходный пейзажист. В передаче ослепительного солнечного света, электрически блестящей ультрамариновой воды, блещущего золотом воздуха и яркой лесной зелени с ее тенями и просветами он был истинно великолепен. Такие его картины, как «Вилла у моря» (1864), «Ущелье» (1870), «Священная роща» (1871), «Святилище Геракла» (1879) и многие другие, но в особенности его высокопоэтический «Остров мертвых» (1880), полная жизни «Игра волн» (1883), «Морская идиллия», «Морская тишь* (1887) и еще некоторые другие навсегда будут иметь громадное художественное значение. Но всем своим пейзажам Бёклин словно умышленно желал мешать и вредить, изо всех сил старался ослабить их художественность и „впечатление, приклеивая к ним, без малейшей надобности, мифологические и аллегорические фигуры, заставляющие здорового, не попорченного школьными предрассудками зрителя только < пожимать плечами. Что выигрывают его чудные картины моря, со всеми своими изумительными светами, цветностями и переливами, от того, что среди волн тут плещутся белые нереиды и черные тритоны? Что выигрывают его столь же чудные лесные пейзажи от того, что вверху горы, словно острием или шпицем каким-то, лежит громадный Полифем, сам-то как неуклюжая гора? Что выигрывает его чудное „Ущелье“ от того, что из средины скал высовывается длинная отвратительная голова отвратительного дракона? Ровно ничего все они не выигрывают, а только смущают — своею глупостью, ненужностью и детскостью — мысль и чувство зрителя. Что интересного или хотя бы сколько-нибудь осмысленного представляет картина „Центавр, требующий, чтоб его подковал в кузнице деревенский кузнец“? И, сверх всего остального, что во всем этом „нового“, „нынешнего“, того „moderne“, за которым так гоняются декаденты? Разве двести лет тому назад Пуссены и другие классики не отравляли точно так же свои пейзажи (впрочем, еще школьно-классические) подобными же Полифемами, центаврами, нимфами, фавнами и сатирами? Да, все это уже было давно осуждено и выброшено здравым умом за борт, как негодная, праздная и неприличная игра. Разница в том только состояла, что Пуссен и его товарищи, совершенно чуждые античности и Греции, академически правильно и мертво рисовали их, но при этом не знали и не чувствовали красок и не способны были дать в своих картинах ни одного верного и изящного тона природы, тогда как Бёклин, столько же чуждый античности и Греции, как и они, очень неправильно и спустя рукава рисовал фигуры человека и животных и наполнял свои картины бесчисленными промахами против рисунка, но зато именно чувствовал краски и владел ими великолепно. Стоило же снова затевать прежнее, негодное и давать нам „старые погудки на новый лад“!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: