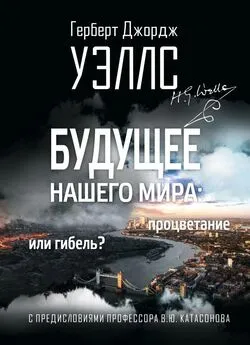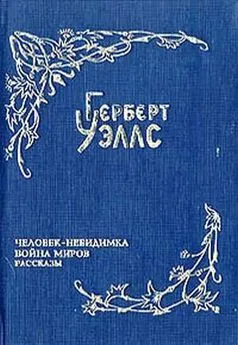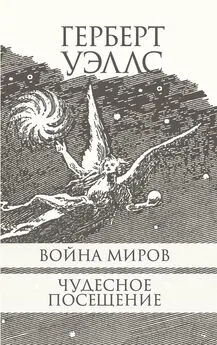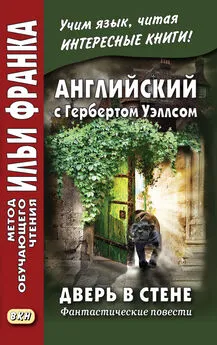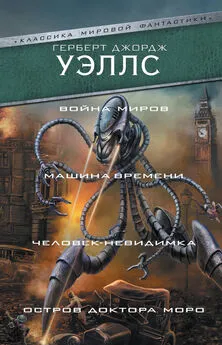Герберт Уэллс - Будущее нашего мира. Процветание или гибель?
- Название:Будущее нашего мира. Процветание или гибель?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кислород
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907342-29-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Герберт Уэллс - Будущее нашего мира. Процветание или гибель? краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Будущее нашего мира. Процветание или гибель? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хорда есть на этапе развития у всех позвоночных животных, но во всех высших формах она замещается хрящевым костным веществом. На всю жизнь она остается у миксим и миног, и в виде миног она попадает к нам на столы.
VII. Антагонизм возраста и молодости
Автор принимает эти факты природы со спокойствием и никак иначе. Но он не верит, что какой-нибудь молодой человек, моложе, скажем, как максимум, тридцати пяти лет, примет их в том же духе. Поскольку приблизительно до такого возраста каждый молодой человек находится в конфликте с мирозданием и стремится утвердить в нем свою волю. Он должен быть совсем лишенным жизненных сил существом, чтобы быть готовым сдаться и «принять вещи такими, какие они есть».
Но вашему автору уже семьдесят девять лет; он жил весело и богато. Как и Лэндор [49] Уолтер Сэвидж Лэндор (1775–1864) – английский поэт, писавший с одинаковым совершенством по-английски и по-латыни.
, он согрел обе руки у огня жизни и теперь, когда он все больше становится немощным инвалидом, готов уйти. Он ждет своего конца, наблюдая за человечеством. Ждет, все так же жаждущий найти полезное применение своему накопленному опыту в наши времена душевного смятения, но без того безудержного порыва выяснить отношения с жизнью, который является необходимой частью характера любого нормального молодого человека – и мужчин, и женщин.
Каждый человек старше зрелых лет находится в том же положении, что и автор. Когда-то он сделал себя сам. С тех пор он и все старшее поколение просто разрабатывали и развивали, в большинстве случаев с определенной энергией, те формы мышления, в которые уже были отлиты их убеждения. Он склонен думать, что его постоянный интерес к биологическим наукам, наверно, поддерживал его в более тесной связи с живой реальностью, чем политиков, денежных спекулянтов, богословов или бизнесменов, но это ничего не значит в смысле преодоления пропасти между пожилым человеком и молодым. Мы, старики, смотрим с надеждой или злорадством, ревниво или великодушно, но можем оставаться лишь зрителями. Мы жили, по сути, сорок с лишним лет назад. Сейчас живут молодые, и вся надежда только на них.
VIII. Новый взгляд на летопись камня
Вращение Земли вокруг своей оси и по орбите замедляется. Все, открытое за последние годы, подтверждает мысль, что, измеренная точнейшими радиевыми часами, наша оценка продолжительности ранних эпох летописи камня должна быть довольно значительно сокращена по сравнению с кайнозойским периодом. Формы остаются теми же, но изменяются пропорции. Это замедление движения может быть, а может и не быть постоянным. Автору представляется более вероятным, что оно постоянно. Мы не знаем. По-видимому, в те безудержные времена условия выживания отдельных особей и видов колебались очень быстро и размашисто.
Одно можно сказать наверняка. В огромном количестве накопленных фактов ни разу не попадается ни одного, который бросил бы тень сомнения на то, что до сих пор называют «теорией» органической эволюции. Несмотря на яростные отрицания набожных людей, ни один рациональный ум не может подвергнуть сомнению неопровержимую природу эволюции. Есть замечательная маленькая книжечка А. М. Дэвиса, «Эволюция и ее современные критики», в которой все полностью и убедительно подытожено. Плохо информированный читатель должен обратиться к ней.
Как сейчас представляется, замедление жизненной активности Земли есть факт. Годы и дни становятся длиннее; человеческий разум все так же активен, но гонится за изобретением средств уничтожения и смерти.
Автору мир видится пресыщенным, лишенным восстанавливающей силы. В прошлом ему нравилось верить, что Человек сможет вырваться из своих пут и начать новый творческий период жизни человечества. Перед лицом всеобщей неадекватности этот оптимизм уступает место стоическому цинизму. Старики ведут себя по большей части подло и отвратительно, а молодые издерганы, глупы, и все в целом слишком легко поддаются обману. Человечеству предстоит двинуться либо круто вверх, либо круто вниз, и все шансы, кажется, в пользу круто вниз и исчезновения. Если же оно пойдет вверх, то от него требуется такая большая адаптация, что человеку предстоит перестать быть человеком. Обычный человек уже до предела натянул поводок. Способно выжить только высоко адаптирующееся меньшинство вида. Остальным не стоит и волноваться, надо лишь подыскать себе виды опиума и утешений, чтобы успокоить разум. Давайте же завершим это рассуждение о последней фазе истории жизни обозрением видоизменений человеческого типа, происходящих в настоящее время.
Приматы появились как лесные существа из числа групп насекомоядных. Они вели древесный образ жизни. Среди ветвей они обрели остроту зрения и соответствующую мускулатуру. Они были общительны и жили сытно и вольготно. Затем, по мере обычного увеличения размеров, веса и силы, им волей-неволей пришлось спуститься на землю, теперь уже достаточно большими, чтобы превзойти, победить и перехитрить и более крупных плотоядных лесного мира. Их полупрямой способ передвижения позволял им выпрямляться и бить своих противников палками и камнями, что стало неслыханным усилением мощи, ранее заключавшейся только в зубах и когтях. Но к тому времени их взаимное дружелюбие стало угасать, потому что они теперь нуждались в широких областях пропитания. Маленькие исчезали, уступая большим, согласно освященному веками образу жизни. Человекообразные обезьяны до высокого уровня развили институт частной семьи. В развитие этой линии мы и получаем сегодня гориллу, шимпанзе и орангутанга.
Но в период сокращения лесов оказавшиеся за пределами лесных районов приматы подверглись другим испытаниям. Вокруг них были травяные равнины и засушливые степи. Запасы растительной пищи сократились. Мелкая дичь и в целом мясо становились все более важной частью рациона. Как всегда, была альтернатива: «Приспособиться или погибнуть». От всемирного истребления приматы были счастливо спасены появлением их новых разновидностей. Они стали более прямоходящими, чем лесные обезьяны; они бегали и охотились, и оказались достаточно умны, чтобы объединяться ради охоты.
Эти быстрые наземные обезьяны были Гоминидами, голодными и свирепыми животными. Поскольку они обитали на открытом воздухе и обладали достаточным умом, чтобы не тонуть то и дело, окаменелые следы их присутствия немногочисленны и разрозненны. Но их достаточно. Если от них почти не осталось их собственных костей, то осталось немало их орудий. Прямохождение освободило руку и глаз для более тесного сотрудничества. Эти животные общались с помощью грубых звуков. Они научились использовать палки и камни. Они отбивали острые куски от больших камней, и, когда искры попали в сухие листья, вокруг которых они сидели на корточках, вдруг появился красный цветок огня. Он показался им таким ласковым и знакомым, что они не испугались. До тех пор ни одно другое живое существо не видело огня, кроме как во время панического бегства от него при больших пожарах. Огонь преследовал безжалостно. Медведи, даже пещерные медведи, стремглав убегали от огня и дыма. Гоминиды, напротив, сделали из огня друга и слугу. При нападениях замерзших или плотоядных врагов они забирались в пещеры и подобные укрытия и поддерживали огонь в домашних очагах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: