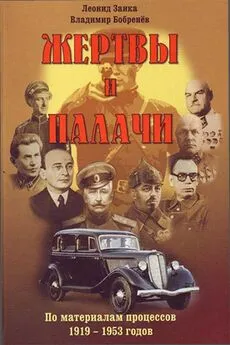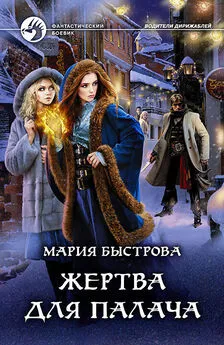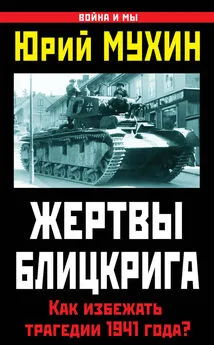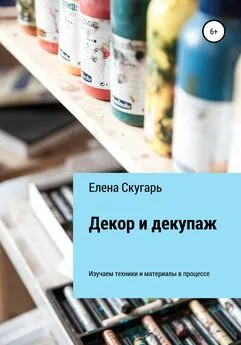Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Название:Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2011
- ISBN:978-5-8041-0568-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов краткое содержание
Образный язык, глубокое знание предмета повествования (авторы имеют за плечами большой опыт прокурорской работы), привлечение обширного массива архивных документов, многие из которых длительное время оставались неизвестными российскому читателю, позволяют воочию представить страдания человека, попавшего под пресс классового, пролетарского правосудия. Нельзя освободиться от истории страны, в которой ты живешь. История требует осмысления. Наша книга для думающего читателя.
Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А Григорий Иванович почти не слезал с броневика, пытаясь разобраться в причинах происходящего. Никак не мог взять в толк, почему столь резко откатываются наши части назад, почему бросают оружие, бегут с передовой и сдаются в плен красноармейцы. Несколько раз вместе с охраной сам едва не попадал в немецкие ловушки, избежать плена удалось чудом. Вообще-то он, наверное, понимал, что толку от его инспекторских наскоков чуть, но отказаться от привычных методов работы уже не мог, так как другими просто не владел. Обиделся даже, когда по приказу Сталина отозвали в Москву, а там Главнокомандующий отчистил, не стесняясь в выражениях, до медного блеска. Отмолчался, понимая, что иначе может многого, если не всего, лишиться.
Звание Героя Советского Союза Кулик получил в марте 1940 года — «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардей-щиной и проявленные при этом отвагу и геройство». Обнаружить следы каких-то заслуг замнаркома и начальника Главного артуправления РККА в обеспечении победы «на фронте борьбы с финской белогвардейщиной» оказалось непросто. Ну, во-первых, о победе над финнами в той войне говорить как-то неловко. Та война покрыла позором стратегию и тактику всех причастных к ней наших полководцев. Во-вторых, подравнивание роли Кулика с ролью, например, командира 70-й дивизии генерала М.П. Кирпоноса, за прорыв линии Маннергейма удостоенного звания Героя, кажется несколько кощунственным. Но это было сделано по предложению Сталина.
Вообще-то, полководческий талант у Григория Кулика, считают многие историки, первым обнаружил Сталин во время боев под Царицыном еще в Гражданскую. Правда, сражений, выигранных тогда, да и потом с истинным полководческим блеском, за будущим маршалом не числилось. Но к первоконникам, независимо от полководческих данных и заслуг, Иосиф Виссарионович питал особое пристрастие. Потому-то ни одно армейское объединение не дало стране столько маршалов и генералов высокого ранга, сколько Первая Конная. Правда, счет выигранным сражениям в Великую Отечественную войну большинству из них открыть так и не удалось.
Личный героизм, слов нет, отлично работает на авторитет начальника. Но это как бы необходимое приложение к полководческому искусству, умению максимально использовать имеющиеся людские, технические, оперативные возможности. У Григория Ивановича был явный недобор таких качеств. И везде, где бы он ни пытался применить свои способности, ничего, кроме неразберихи, развала, не происходило. Примерно в таком же нажимном ключе действовал и начальник Политуправления РККА Л.З. Мехлис. Можно представить, что происходило там, где их усилия объединялись или оказывались наложенными друг на друга.
Время наступило тяжелейшее. Обстановка на всех фронтах ухудшалась не по дням, а по часам. Растерялись и многие опытные командиры. Войска несли огромные потери. Нужны были энергичные, взвешенные, рассчитанные на перспективу решения. Людей, способных их принимать, в высшем командовании Красной Армии было тогда не так много. Не принадлежал к их числу и Кулик, непонятно почему удостоившийся чести разобраться с обстановкой в Белоруссии, на Юге России, а потом поправить катастрофическое положение в Крыму.
За Крым придется ответить
После гитлеровского наступления на севастопольском и керченском направлениях в Крыму сложилось тяжелейшее положение. Защищать полуостров было фактически некому и нечем. Маршевые роты прибыли без вооружения, резервов нет, винтовок и пулеметов в обрез, боеприпасы вышли. В дивизиях, отходивших в керченском направлении, оставалось по 200, максимум по 350 человек. Командующий войсками Крыма вице-адмирал Левченко и секретарь Крымского обкома партии Булатов сообщили, что принято решение свести остатки трех дивизий в одну.
Сталину очень не понравилась позиция Военного совета войск Крыма: «В связи с тем, что имеющимися силами удержать Керчь нет возможности, необходимо или усилить дополнительно это направление двумя дивизиями, или же решить вопрос об эвакуации войск из района Керчи». Несколько смягчило общий тон доклада заверение Левченко, что командование требует «от войск прочного удержания керченского и севастопольского плацдармов». Командующий подтверждал, что приложит все усилия, но выполнит распоряжение Ставки от 7 ноября, подписанное Сталиным, Кузнецовым, Шапошниковым, об организации активной обороны полуострова, непременном удержании его. Левченко, Октябрьскому, Батову предписывалось не сдавать Севастополь, эвакуировать оттуда лишь «все ценное, но ненужное для обороны». Как это осуществить, что станется с практически безоружными людьми, никого не интересовало.
Приказывая удержать Крым во что бы то ни стало, Главное командование рассчитывало не только решить эту локальную задачу, но и по возможности не допустить или хотя бы задержать выход немцев к Северному Кавказу, а там и к бакинской нефти.
Крыму история не раз отводила роль своеобразного рубежа, после которого в Отечестве нашем многое менялось. Вот и двадцать два года назад, летом и осенью 1920 года, такой рубеж, перечеркнувший десятки тысяч человеческих судеб, пролег по узкой кромке Крымского берега. Дни стояли сухие, запах пыли и высушенной полыни пропитал все и всех. Теплая, полынью же пахнувшая вода не утоляла жажду. Да и ее не хватало. Может быть это, а, может, и горечь во рту и на сердце усиливали ощущение приближавшейся катастрофы. Оборонявшие полуостров части белых еще могли держаться, но витавшая в воздухе обреченность давила на людей, лишала их решимости сопротивляться до конца. Как только командовавший ими генерал П.Н. Врангель это понял, он принял в принципе самоубийственное (для себя лично как политика и полководца) решение об отходе. Он думал о никчемности своих притязаний перед ценностью человеческих жизней и прекрасно сознавал, что, уходя от бессмысленного сражения, сохраняет и жизни русских людей, воюющих на стороне противника.
И сохранил. Командарм А.И. Корк сообщил в донесении, что его потери составили 45 командиров и 600 красноармейцев. Даже если по давним «революционным» традициям официальные потери значительно занижены, они могли быть во много раз больше, если бы белые и далее сопротивлялись. Но в ноябре 1920 года 126 судов — это 135.693 пассажира, груз, запасы провианта и обмундирования — вышли в открытые воды почти идеально спокойного, по свидетельству очевидцев, даже без зыби Черного моря. Накануне войска и население имели возможность ознакомиться с приказом-обращением правителя Юга России Главнокомандующего Русской армией:
«Русские люди!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: