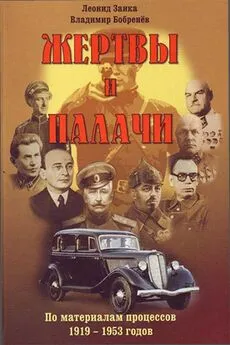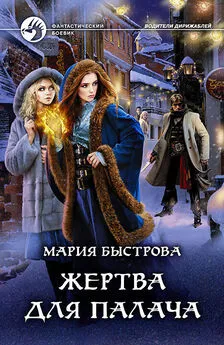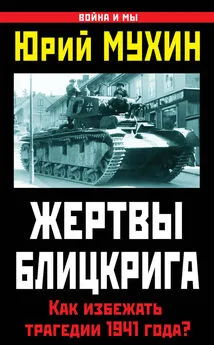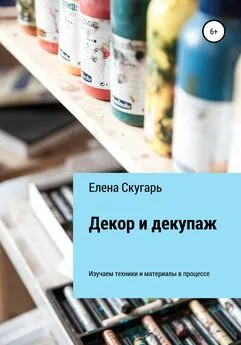Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Название:Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2011
- ISBN:978-5-8041-0568-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов краткое содержание
Образный язык, глубокое знание предмета повествования (авторы имеют за плечами большой опыт прокурорской работы), привлечение обширного массива архивных документов, многие из которых длительное время оставались неизвестными российскому читателю, позволяют воочию представить страдания человека, попавшего под пресс классового, пролетарского правосудия. Нельзя освободиться от истории страны, в которой ты живешь. История требует осмысления. Наша книга для думающего читателя.
Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не отставал в своем стремлении искоренить терроризм и антисоветчину Наркомат внутренних дел. 27 мая 1935 года была издана инструкция «тройкам» НКВД по рассмотрению дел об уголовных и деклассированных элементах и о злостных нарушителях паспортного режима. В ней говорилось, что для предварительного рассмотрения дел уголовных, деклассированных элементов и злостных нарушителей паспортного режима в каждой союзной республике, в крае и области создаются «тройки» в составе председателя (начальник УНКВД или его заместитель) и членов — начальника управления милиции и начальника отдела, чье дело разбирается на тройке.
Таким образом, в стране стали действовать внесудебные карательные органы, не предусмотренные никакими законами. Причем, если сначала к ведению «троек» относилось преследование деклассированных элементов, то вскоре они были наделены правом применять любые наказания, включая расстрел. Наркомат внутренних дел поднял свои полномочия выше законодательной власти.
5 ноября 1935 года Постановлением ЦИК и СНК СССР при Наркомате создается Особое совещание — еще одни внесудебный орган с широкими полномочиями.
Символом беспредела карательной системы стал Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел от 3 июля 1937 года № 00447 о проведении широкомасштабных репрессий в отношении бывших кулаков, активных антисоветских элементов, уголовников, в которым причислялись бывшие члены антисоветских политических партий, репатрианты, белоэмигранты и все другие неугодные Советской власти граждане. В приказе содержалась разнарядка на количество лиц, подлежащих репрессиям в каждой республике, крае, области, с указанием, сколько тысяч человек подлежат расстрелу и сколько — другим мерам наказания.
Вскоре в Москву с мест стали поступать рапорты партийных секретарей о досрочном выполнении планов репрессий и просьбы об увеличении лимита на уничтожение людей.
Ну а военная прокуратура после смерти Орловского почти год оставалась без руководителя. Искали достойную замену безвременно ушедшему Главному военному прокурору? Не похоже. Скорее всего, присматривались к претендентам, готовили будущего послушного исполнителя. Что ни говори, а дела с обвинениями по 58-й статье находились под надзором военной прокуратуры. Военные прокуроры утверждали обвинительные заключения и осуществляли надзор за рассмотрением дел в военных трибуналах. Другим прокурорским работникам доступ в эту сферу был закрыт.
Руководство Прокуратуры СССР поменялось. Прежнего Прокурора СССР И.А. Акулова, арестованного НКВД по сфабрикованному стандартному обвинению, сменил А.Я. Вышинский. Тот самый, который стоял у истоков разработки методики расследования контрреволюционных преступлений на базе дела заговорщиков, осуществивших убийство С.М. Кирова. Новому Прокурору СССР явно приглянулся Наум Савельевич Розовский, который уже добрый десяток лет ходил в бессменных замах Главного военного прокурора, приспособился ладить с начальством, был послушен и исполнителен. Тем не менее назначили его на высшую должность в военной прокуратуре не сразу. Предоставили возможность сначала проявить себя в качестве врио Главного военного прокурора, установили своего рода испытательный срок.
Розовский оказался перед непростым выбором: остаться верным линии своих предшественников и соблюдать социалистическую законность, независимую ни от местных, ни от ведомственных влияний, партийных и административных указок сверху, или отрешиться от всего этого, стать послушным исполнителем воли начальников, от которых зависело пребывание на вершине прокурорской власти.
В архивах Главной военной прокуратуры сохранилась любопытная переписка, обнажающая суть «дипломатии» Розовского в период, предшествовавший его назначению на должность. Еще в январе 1936 года военный прокурор Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии В.И. Малкис представил на имя Розовского докладную записку о невыполнении начальником домзака (так тогда назывались следственные тюрьмы НКВД) его требования об освобождении из-под стражи арестованного, на которого было прекращено уголовное дело. В записке поднимался вопрос неправомерности действий тюремной администрации, отказывавшейся выполнить требование прокурора.
Как должен был поступить Розовский? Принять все меры для пресечения самоуправства ретивого начальника домзака, тем более что подобное пренебрежение сотрудников НКВД к распоряжениям военных прокуроров становилось все более массовым явлением? Подобная принципиальность наверняка вызвала бы негативную реакцию со стороны руководства НКВД, а портить отношения даже с уже обреченным Ягодой Розовский не собирался. Он поступил проще — уклонился от прямого ответа, поручив это сделать своему помощнику Я.И. Козаринскому. И тот сочинил уникальный по своей бессмысленности документ:
«Направление постановления прокурора об освобождении арестованных установлено через аппарат НКВД, и действия начальника домзака являлись правильными. Вместе с тем, органы НКВД, получив решение прокурора об освобождении граждан, обязаны немедленно его реализовать».
Напечатанная перед словом «правильными» частица «не» зачеркнута подписавшим, что абсолютно ничего не меняло в чиновничьей бессмыслице. Словом, «казнить нельзя помиловать».
Малкиса подобная невразумительная отписка удовлетворить, конечно, не могла. Он направил Розовскому новый запрос с пометкой «лично»: «Из ответа я не понял, имеем ли мы право освобождать арестованных, числящихся за нами. Вправе ли НКВД задерживать освобождение арестованного?»
И опять Розовский уклонился от ответа. Лишь в августе 1936 года — спустя целых семь месяцев после поступления в Москву первичного запроса — четкое разъяснение Малкисудал Л.М. Субоцкий, оставшийся за убывшего в отпуск Главного военного прокурора. Он указал, что требование военного прокурора об освобождении арестованных подлежит немедленному исполнению. Упреждая события, заметим, что принципиальность Малкиса и Субоцкого не прошла для них бесследно и им очень скоро ее припомнили.
Заняв кресло Главного военного прокурора, Розовский начал со строгого предупреждения подчиненных:
«Обстановка ожесточенной классовой борьбы в стране требует от всех органов пролетарской диктатуры максимальной большевистской бдительности, непримиримости к врагам, умения вовремя вскрывать самые замаскированные формы сопротивления классового врага и его агентуры. Этим умением, прежде всего, определяется качество каждого военно-прокурорского органа».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: