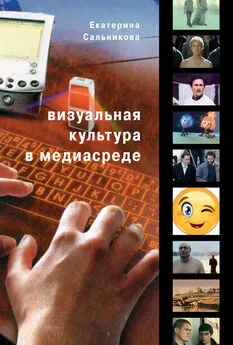Екатерина Сальникова - Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1
- Название:Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449374813
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Сальникова - Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1 краткое содержание
Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Закадровый голос, хроникальные кадры и отчасти музыкальный ряд охраняют образы персонажей от монументализма и форсированной героизации, беря на себя в умеренных дозах обязанность официального воспевания Красной Армии, прославления ее героев и празднования советских знаменательных дат. Внутренне фильм отнюдь не оппозиционен официальной героической версии Великой Отечественной войны. Но он стремится быть фильмом не о героизме и не о подвигах в привычном понимании этого слова.
Произносимая, вербализуемая официальная картина мира сочетается с неофициальной, личностной, которая может именно рядом с воспеванием-прославлением оказаться подчеркнуто интимной, непарадной.
Так, в начале четвертой серии, действие которой происходит 23 февраля, с помощью закадрового голоса и монтажа фото и кинодокументов начертана картина празднования Дня Красной Армии в преддверии победы. Обращение Сталина, опубликованное в «Правде», зачитывают перед войсками. Нам показывают и газетную полосу, и процесс ознакомления народа с официальной речью. Далее следует наше ознакомление с посланиями Рузвельта и Черчилля. Весь этот документальный фрагмент развивается совершенно изолированно от жизни и раздумий Штирлица. При том, что во многих других случаях закадровый голос и рефлексии Штирлица объединяются в единое целое.
Пройдет множество напряженных моментов этого дня. И только когда настанет вечер, а главное, официальная хроника советского праздника успеет зрителями забыться, Штирлиц вступит в свой праздничный период. Зазвучит грозная и патетическая «Вставай, страна огромная…» – и звучит эта мелодия как бы в сознании героя. Замелькают кадры кинохроники разных лет войны – Ленинград 1942, Сталинград 1943. Москва 1944, парад, мальчишки на заборе, салют. Тем самым, закадровый голос вместе с хроникой обозначают духовное единение героя со страной, с блокадниками, с фронтовой жизнью и просто жизнью в Москве.
Чтобы сцена одинокого празднования не выглядела излишне серьезно, нудно или умилительно до нелепости, ее прореживают видом хмурого Айсмана, прослушивающего записи допросов пастора Шлага Штирлицем, а также сценами самих допросов. Не у всех праздник, у кого-то серые рабочие будни.
Наконец, фильм чувствует себя свободным развивать ситуацию по-своему, подводя к тому, для чего, собственно, Штирлиц использует 23 февраля. Он находится в своем лесном доме, в совершенном одиночестве, отмечая День Красной Армии индивидуально, но и не подпольно.
Со своей «страной огромной» он уже многие годы может быть только мысленно. И сейчас наступает тот недолгий период времени, когда герой отодвигает все дела, все проблемы, чтобы ничто не мешало внутреннему «выходу на связь» с родной страной. То есть Штирлиц сосредоточивается на своей боли, тоске и любви к родной стране. Позволить себе все это Штирлиц может только в праздник, раз в год, иначе он не выживет здесь, в Берлине. Это довольно точный, вызывающий доверие психологический поворот, рожденный поиском внутреннего компромисса с официальной культурой. Не отметить 23 февраля такой киногерой не имеет права. Но сделать это он должен так, чтобы не скомпрометировать себя и весь фильм.
«Семнадцать мгновений…» уводят в сторону от дежурной праздничности как таковой, которая смотрелась бы нелепо в ситуации пребывания героя в фашистской Германии под чужим именем. (Анекдоты о Штирлице издеваются именно над абсурдом празднования советского праздника в гитлеровском Берлине: «Штирлиц надел советскую форму с погонами, все ордена и медали, и на белом коне проехался по всем этажам Рейхстага. В эти дни Штирлиц был как никогда близок к провалу»).
Штирлиц пьет водку, печет картошку в камине своего вполне респектабельного немецкого дома, ест ее и пачкается золой. Перемещаясь по гостиной, он даже позволяет себе дважды зацепиться за ковер и даже смеет как будто некрепко держаться на ногах, двигаясь слегка разболтанно, как человек, которому некого опасаться, неоткуда ждать подвоха и даже, быть может, глубоко наплевать в этот момент на все вокруг. Герой берет себе право хотя бы несколько часов побыть не застегнутым на все пуговицы, не во всеоружии, не безупречно собранным. И закадровый голос в этот период не звучит – должно же быть что-то святое и неприкосновенное для авторов в мире Штирлица.
Идеальное самообладание является одной из главных характеристик героя. Таково же качество благовоспитанного европейца, в первую очередь – аристократа. Самообладание, управление внешней жизнью тела, проявлениями эмоций – вообще один из главных концептов европейской культуры. Этому умению всегда владеть собой, выглядеть сдержанным и спокойным, в меру невозмутимым, в меру доброжелательным, учили веками во всевозможных руководствах по этикету [251]. Идеальное самообладание и умение эффектно показывать требуемые по ситуации чувства, не отдаваясь им на самом деле, особенно ценились в актерской игре Нового времени, в эпоху классицистского театра, о чем свидетельствует «Парадокс об актере» Дидро [252].
И вот идеальное самообладание на некоторое время отменяется Штирлицем наедине с собой. Одиноко присев у камина, Штирлиц затягивает «Ой, ты, степь широкая…», вечную, вне исторического времени существующую и никакого прямого отношения к 23 февраля не имеющую. Собственно, вся суть этого эпизода в том, что День Красной Армии используется героем как повод для выпадения из текущего момента, из напряженного настоящего рейха и его, Штирлица, деятельности в тылу врага – чтобы отдаться тоске по родине, а не по советскому государству, не по социалистическому укладу и уж точно не по Дню Красной Армии.
Эта тема тоски и одиночества возникает не единожды, но проходит через все произведение, заданная еще в прологе. В третьей серии, до того, как авторское сознание будет рассказывать о последнем «свидании» Штирлица с женой десять лет назад, и до того, как прозвучит песня «Я прошу хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня…», к дому Штирлица подойдет бездомный грустный пес. Штирлиц погладит его по голове и покормит на крыльце, потому что пес не захочет заходить в дом. Зачем нужна эта сцена? Ведь «Семнадцать мгновений…» не строго жанровое прагматичное кино, в котором любовь к животным должна была бы акцентировать положительность героя или затушевывать провисание внешнего действия. Здесь все не так. И бездомный пес с очень грустными глазами нужен для того, чтобы Штирлиц мог посмотреть кому-то в глаза тоже с грустью, не опасаясь стать в чем-то подозреваемым. Он тоже одинокий, тоже несчастный, ему тоже плохо.
«Нам умирать не страшно, мы отжили свое. Мы одинокие стареющие мужчины», – скажет Штирлиц пастору Шлагу. В этих словах не только умелое воздействие на пастора, но и доля искреннего признания. Жизнь проходит, в сущности, она уже прожита, и остается в ней в основном только работа на грани психических возможностей, пускай эта работа межгосударственной важности. Остаются воспоминания. И развернуто существовать герой может скорее в них, нежели в моделировании своего личного будущего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: