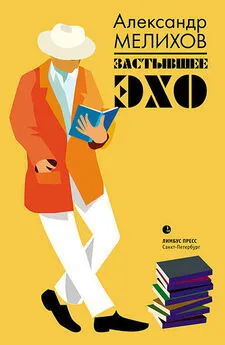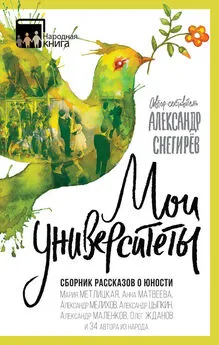Александр Мелихов - Застывшее эхо (сборник)
- Название:Застывшее эхо (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0834-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мелихов - Застывшее эхо (сборник) краткое содержание
Застывшее эхо (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне тоже кажется, что у науки два главных врага: не желающая знать никаких границ рациональность, презирающая все даруемые фантазией душевные переживания, и не желающая знать никаких границ иррациональность, признающая за истину любые химеры, лишь бы они несли хоть минутное утешение. Если утешительные фантазии по уходящей традиции уподобить опиуму, то последнюю стихию можно сравнить с разгулом наркомании – миру необходимо отыскать тесные врата меж гибельной трезвостью и гибельным опьянением.
Ствол и семя
С незапамятных времен за человеческое сердце борются двое могущественных соперников – государство и семья. Они оба требуют от человека любви и временами очень серьезных жертв; они оба ревнуют его друг к другу; но поскольку государство физически неизмеримо сильнее, то в периоды обострения этой ревности страстные государственники начинают требовать крутых мер, чтобы разрушить или хотя бы дискредитировать семью как источник всяческого мещанства и хранилище дремучих предрассудков, а либералы в ответ принимаются с удесятеренной страстью воспевать достоинства и достижения семейной жизни в противовес бессмысленной тирании государства. В глубине же души и та и другая страсть стремится обладать предметом своего вожделения безраздельно.
И, разумеется, каждая из них призывает себе на помощь науку.
В начале шестидесятых известный социолог Дж. Коулмен попытался определить, какие факторы определяют уровень интеллектуального развития школьника. После обследования шестисот тысяч учащихся и четырех тысяч крупных школ исследователь пришел к выводу, что для ребенка из хорошей семьи параметры школы (расходы на одного учащегося, наличие лабораторий, качество библиотек, образование учителей) не имеют почти никакого значения – все определяет семья. На юге же, среди бедного чернокожего населения, гораздо более важную роль играет школа, но опять-таки не те неодушевленные предметы, которые покупаются за деньги, а люди: учителя и особенно одноклассники – ребенок из социально ущемленного слоя учится хорошо среди товарищей с более высоким социальным статусом и плохо среди ровни. Зато на мальчика из благополучного слоя «дурное соседство» уже не оказывает очень уж существенного влияния.
Таким образом, хорошая семья оказалась главным фактором воспитания не только собственных детей, но и тех, кому посчастливилось оказаться с ними в одном классе. Успешность даже и государственного образования зависит от семьи. «Но кроме интеллектуального развития есть и нравственное, – возражали государственники, относившиеся к частной жизни с недоверием. – А кто поручится, что эти умники усвоили ценности патриотизма и трудового бескорыстия?» Тоже правильно – можно быть коррупционером и при этом прекрасным отцом. И даже именно ради семьи особенно безжалостно обдирать государство…
Поэтому неудивительно, что примерно в то же самое время – в разгар оттепели – в прогрессивнейшем «Новом мире» была опубликована статья-программа академика С. Г. Струмилина, крупного деятеля государственного планирования, предложившего почти полностью отнять у семьи воспитательные функции: ведь не секрет, что далеко не все родители воспитывают детей правильно, так не пора ли заменить их специально подготовленными профессионалами, как это делается при переходе от кустарного производства к фабричному? Педагогическая национализация должна была осуществиться к 1975-80 годам: к этому времени «каждый советский гражданин (это о новорожденном младенце! – А. М.), уже выходя из родильного дома, получит направление в детские ясли, из них – в детский сад с круглосуточным содержанием или в детский дом, затем в школу-интернат» – и так далее, все выше, выше и выше.
Впрочем, никто юного гражданина отнимать даже и у отсталых мамаш не собирался: матерям будет дозволено навещать детей «в свободное от работы время… столько раз, сколько это предусмотрено установленным режимом». А за хозяйством будет тоже присматривать «специальный совет», который заодно будет заботиться о пенсионерах и инвалидах труда.
Вся эта планировка вполне укладывалась в русло теоретизирований Маркса – Энгельса, писавших о бесплатном общественном воспитании всех детей, о производительном труде с девяти лет, однако и до классиков научного социализма государство обрушивалось на семью всякий раз, когда стремилось подчинить общество решению какой-то единой задачи, стремилось с чем-то этаким покончить и что-то такое начать.
В разгар якобинского террора Робеспьер самолично представил Конвенту разработанный Мишелем Лепелетье «План национального воспитания», открывавший миру, что «свирепые враги королей являются самыми нежными друзьями человечества». Нежные друзья человечества намеревались ни больше ни меньше как создать новый народ, для чего все дети с пяти лет (хотя бы не с роддома) должны были передаваться в общественные заведения по четыреста – шестьсот воспитанников, которых ожидало там полное равенство в строгой дисциплине, производительном труде, почтительном уходе за престарелыми, одинаковая еда, одежда и постель – все дешевое, но «удобное и полезное для здоровья» (вино и мясо исключалось; за воспитателями и завхозами надзирал родительский комитет).
При этом в одном из пятидесяти (какова точность!) воспитанников к одиннадцати-двенадцати годам должен был обнаружиться какой-то талант: ему и будет предоставлена возможность учиться дальше – начальству ли не знать, кто талантлив, а кто нет! Благодарение богу, в этой спартанской обстановке, в изоляции от родителей высшие потребности вряд ли прорезались бы у слишком многих…
Кстати сказать, сами легендарные спартанцы, отнимая детей у родителей, и не претендовали на подобные изысканности: чтению и письму их обучали лишь «по необходимости», а «остальное же их воспитание преследовало лишь одну цель: беспрекословное послушание, выносливость и науку побеждать». Спарта и не породила ни поэтов, ни ученых, с давних пор указывали либералы. Не беда, мужество и самоотверженность важнее наук и искусств, отвечали им государственники во главе с Жан-Жаком Руссо, с которым и сейчас, по-видимому, согласятся многие генералы и даже майоры, полагающие, что солдаты более важны, чем ученые и музыканты.
И спору этому не видно конца…
Но за каким же из этих культов – за культом государства или за культом семьи – все-таки истина? И есть ли она вообще? И что мы, собственно говоря, имеем в виду, когда говорим, что ищем или даже нашли истину? Ведь в наивном быту, где мы обретаем первичные представления о том, что правильно и что неправильно, всегда можно установить, кто самый сильный и кто самый быстрый, какая дорога до магазина самая короткая и где провел время данный конкретный Петька – в школе или в кинотеатре, – и так далее, и так далее. А если после этого ты имел счастье или несчастье специализироваться в точных науках, где все базируется на наблюдениях и логических выкладках, против которых не может восстать ни один жулик или упрямец, то понемногу ты просто перестаешь понимать, почему такой же неотразимостью не обладают социальные истины?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: