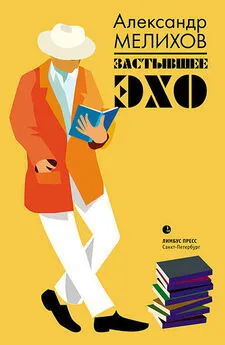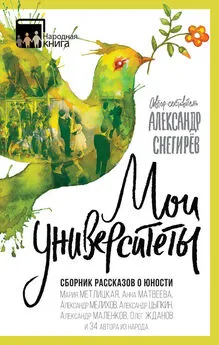Александр Мелихов - Застывшее эхо (сборник)
- Название:Застывшее эхо (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0834-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мелихов - Застывшее эхо (сборник) краткое содержание
Застывшее эхо (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И много ли уважения, не говоря уже о любви, мы обрели у доминирующей цивилизации? Прежде нас хотя и побаивались, но зато и видели какую-то тайну, какой-то нераскрытый, а во многом и раскрытый потенциал – не зря же кумиры левой интеллигенции стремились отметиться в сталинском кабинете, к Гитлеру что-то никто из них не заехал, как их ни любят отождествлять их духовные потомки. Но раз уж вы сами объявили, что вы такие же, как все, только похуже… Зачем нам ухудшенная копия, когда у нас есть оригинал – мы сами?
Сложившаяся цивилизация не будет смотреть на новичка сверху вниз, только если он предъявит ей что-то НЕВИДАННОЕ. Каждому новому претенденту на место в ее рядах она дает понять: принеси то, не знаю что, но только что-то такое, чего нет у нас самих.
Образ Советского Союза был сложен из черно-белых кусков, как надгробие Хрущева, сотворенное Эрнстом Неизвестным, но каким-то обаянием этот образ обладал, пугающим и влекущим. Теперь, когда мы покрасили себя в ровный серый цвет, от нашей магии не осталось ничего. Да посмотреть хотя бы на наши вывески – смесь лакейского с американским: «Вижен сервис», «Эдука-центр»…
Сегодня России больше нефти необходима красивая сказка – не агрессивная, но созидательная. Нашей перестройке следовало стать прежде всего не перестройкой экономики, но перестройкой сказки. Не уничтожением ее, но реинтерпретацией. Однако этот шанс мы, похоже, надолго профукали.
Остановиться, оглянуться
Примерно сто тридцать лет назад в России были введены «временные правила» об ограничении прав евреев и установлены ограничения по их приему в учебные заведения – есть повод задуматься.
Антисемитизмом часто считают беспричинное желание чинить евреям неприятности или хотя бы тормозить их карьерный рост. Однако неприязнь не бывает беспричинной – в ее основе всегда лежит соперничество. Введение процентной нормы не было исключением. Отведенные еврейским учащимся десять процентов в черте оседлости, пять процентов в остальных частях империи и три процента в столицах должны были оградить пока еще «неразбуженное» (Солженицын) прочее население от еврейской конкуренции.
Царское правительство полвека старалось включить евреев в «нормальную» жизнь, но чуть треснул обруч кагала, тут же принялось за политику дискриминации, всегда и всюду укрепляющую духовную изолированность национальных меньшинств. Разумеется, незаторможенный порыв еврейской молодежи к светскому образованию привел бы к повышенному ее присутствию в интеллектуальной элите, но – дети еврейских «выдвиженцев», а тем более их внуки перестали бы быть евреями или, по крайней мере, выделялись бы своими политическими взглядами ничуть не более, чем успешнейшее немецкое меньшинство.
В Соединенных Штатах Америки еврейские эмигранты тоже очень активно устремились к образованию и социальному успеху, что и там не могло не вызвать воркотни о еврейской угрозе. У государства, однако, хватило ума не поддерживать этот – подчеркиваю – естественнейший протест, и эффект хоть и не очень быстро, но дал о себе знать. В 1940 году в смешанных браках состояло три процента американских евреев, а к 1990 году их доля превысила половину. Политика пряника оказалась эффективнее политики кнута, соблазн оказался сильнее угрозы. Заставив же евреев пробиваться сквозь государственные препоны, которые ощущались ими как оскорбительно несправедливые, правительство своими руками порождало антигосударственные настроения еврейских радикалов – что в свою очередь укрепляло его уверенность в мудрости дискриминационной политики.
Я не собираюсь обсуждать, способствовало бы или нет процветанию России массовое выдвижение евреев на видные места, – настолько ясно, что такого быть не могло: ни один народ никогда не смирится с доминированием какого бы то ни было национального меньшинства, не согласится считать себя проигравшим в собственной стране. Но обретать успех в межнациональной конкуренции неизмеримо плодотворнее на творческом, а не на силовом поприще!
Если пробудить жажду образования в широких массах, если облегчить путь в университеты небогатым слоям, то меньшинство в населении автоматически окажется меньшинством и в элите. В русском народе вполне достаточно талантов, чтобы успешно конкурировать с кем угодно: когда в начале XIX века ничтожная часть российского населения – дворянство – оказалась охваченной творческим порывом, Россия практически за одно поколение создала величайшую в мире литературу. Но вместо того чтобы повторить подобный успех уже с разночинцами, правительство почти сразу же после закона о процентной норме для евреев, в 1887 году, издало так называемый циркуляр о кухаркиных детях, ставящий целью при помощи имущественного ценза освободить гимназии и прогимназии «от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».
Было бы еще понятно, ограничивая «инородцев», продвигать «коренное население», но ограничивать и тех и других…
В позднее советское время, когда «разбужены» были уже миллионы, притеснения евреев при поступлении в высшие учебные заведения, по-видимому, мотивировались недостаточной их лояльностью, тогда как нелояльность эта и была большей частью вызвана притеснениями позднего сталинизма: в двадцатые – тридцатые еврейская молодежь блестяще показала свой советский патриотизм и на ниве индустриализации, и на полях сражений. Но когда их детей впоследствии стали резать на экзаменах при помощи позорных ухищрений…
А между тем никакого русско-еврейского межнационального конфликта в России нет, ибо у российских евреев нет особых национальных интересов внутри России: они не претендуют ни на отдельный язык, ни на отдельную территорию (Биробиджан тщетно ждет своих сынов), ни на – что только и делает народ народом – какую-то отдельную историческую миссию. Нет, каждый отдельный еврей, разумеется, стремится к благополучию либо самореализации и тем самым неизбежно сталкивается с какими-то русскими конкурентами, но даже тысячи и тысячи межличностных конфликтов не могут создать одного межнационального, ибо межнациональный конфликт – это конфликт коллективных наследуемых ценностей (если кому-то не нравятся слова «грезы», «иллюзии» или «фантомы»).
Поэтому все те, кто припутывает антисемитизм к серьезной политике, ставят личное выше общественного.
Соблазн сверхчеловечности
Мы до сих пор гадаем, какой же магической силой убеждения обладали Ленин, Сталин, Муссолини, Гитлер, если им с такой готовностью повиновались и шли на жертвы миллионные массы. Разумеется, нам приятнее объяснить внушаемость масс глупостью, рабскими наклонностями и т. п. Но вот Альберт Шпеер, министр вооружений и военной промышленности Третьего рейха, был умен и романтичен. Талантливый архитектор, интеллектуал, он впервые увидел Гитлера в 1931 году на выступлении перед студентами и был поражен, что среди оваций этот «истерический демагог» вроде бы просто делится заботами о будущем: «Он сам был убежден, будто говорит именно то, чего ждет слившаяся в единую массу аудитория, словно речь шла о простейшем на свете деле».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: