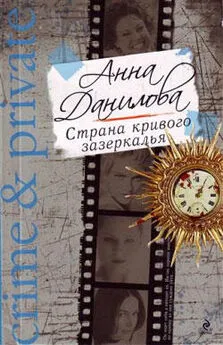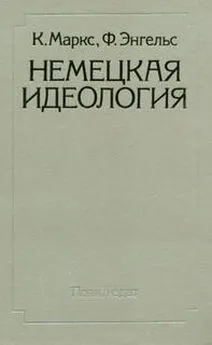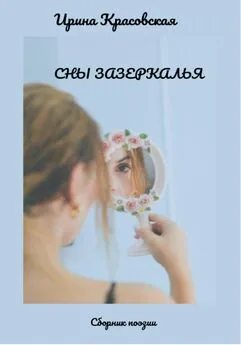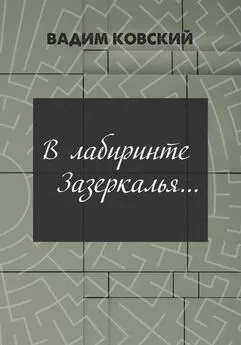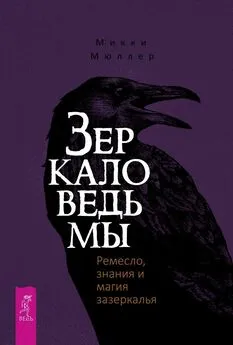Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья
- Название:Идеология Зазеркалья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья краткое содержание
Идеология Зазеркалья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Борьба с партийной оппозицией была для Сталина лишь одной из множества конкретных форм классовой борьбы. Теория обострения классовой борьбы по мере построения социализма преследовала в этом контексте чисто прагматическую цель и должна была лишний раз оправдывать набиравший силу в СССР от 1920-х к 1930-м гг. террор. Сталин действительно формулировал эту теорию неоднократно — и в 1928 году, в речи на пленуме партии, и в антибухаринской работе «О правом уклоне в ВКП(б)», и в 1930 года, в докладе на ХVI съезде партии, и в итоговом виде на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года. В конце концов, он довел ее до полного абсурда. В 1925 году он, в частности, объявлял классовой борьбой «противоречия между пролетариатом и крестьянством», в 1929 году «одной из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма» называл «вредительство буржуазной интеллигенции» и пытался подвести теоретическую базу под практику превращения в классовых врагов всех противников своей линии в верхних эшелонах партийной власти.
Задачи, сформулированные Сталиным в понятиях «индустриализация» или «коллективизация», были абсолютно ясны и доходчивы, хотя индустриализовать аграрную Россию было делом куда более тяжким, чем ввести нэп, когда народ еще не успел утратить навыков частной собственности. «…это можно было сделать лишь создав энтузиазм индустриализации, превратив ее из прозы в поэзию, из трезвой реальности в мистику, создав „миф о пятилетке“, одновременно сопровождающийся террором и ГПУ», — справедливо замечал Н. Бердяев.
Поскольку о реальном «социализме» большевики понятия не имели, Сталину, никудышнему теоретику, но гениальному прагматику, пришлось в одиночестве и на полном ходу придумывать все эти «индустриализации», «коллективизации», «колхозы», «пятилетки», «чистки» и пр., через которые железной рукой, проволок он «за шиворот» страну на протяжении трех десятилетий.
Придуманная Сталиным коллективизация соотносилась с ленинскими «кооперативами» и «товариществами» как высшая математика с арифметикой: Сталин фактически вернулся к политике «военного коммунизма», но уже вершимой руками самих крестьян, изымающих у соседей «излишки», а потом, с помощью государства, «изымающих» и самих соседей; в то же время в идее колхозов была удачно использована русская общинная традиция, помноженная на большевистский «коллективизм», с его установкой на равенство минимальных потребностей.
Развивая ленинские представления о задачах диктатуры, Сталин постепенно уничтожил всех единомышленников и соратников Ленина, вместе с которыми в первые послереволюционные годы руководил новым государством. «Ведь это просто ужас, как они тут любят рубить людям головы; прямо чудо, что кто-то еще в живых остался!» — ужаснулась бы кэрролловская Алиса, попав в нашу страну чудес. Нет в этом отношении ничего более показательного, нежели судьбы членов первого ленинского правительства в России после 1917 года, того самого Совета народных комиссаров, в котором Ленин отвел Сталину достаточно скромную роль министра по делам национальностей.
По интеллекту, книгам, уровню образования, знанию языков большевистские министры, первые руководители разрушенной революцией России не уступали, я думаю, куда более успешным и цивилизованным странам. Г.В. Чичерин, первый советский нарком иностранных дел — сын баронессы Майндорф, выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета, полиглот, любитель поэзии, друг Михаила Кузмина (умер за год до начала репрессий, весьма болезненно коснувшихся и его наркомата). И. И. Скворцов-Степанов — министр финансов, впоследствии редактор «Известий», переводчик «Капитала», автор книги о Жан-Поль Марате, сотен статей и брошюр; В.П. Менжинский — юрист, после смерти Дзержинского председатель ОГПУ, дворянин, прошедший через эмиграцию (Бельгия, Швейцария, Франция, США), эрудит, полиглот, книгочей. В.А. Антонов-Евсеенко — выпускник Воронежского кадетского корпуса, много лет прожил во Франции, был на дипломатической работе в Чехословакии, Литве, Польше. Н.В. Крыленко — юрист, учился в Санкт-Петербургском и Харьковском университетах, в 1917—1918 годы Верховный Главнокомандующий российской армией, председатель Верховного суда и Генеральный прокурор РФСР до Вышинского. О Л.Д. Троцком и А.В. Луначарском и говорить нечего — за ними, помимо блестящей образованности и широчайшей в 1920-е годы популярности стоят горы книг и статей. Но ведь в первом советском правительстве даже А.Г. Шляпников, министр труда, единственный, по-моему, выходец из рабочей среды, много лет до революции прожил за границей и тоже оставил после себя какие-то книги.
В итоге сталинской неустанной деятельности Л.Д. Троцкий был выслан из страны и после многолетней на него охоты убит, А.И. Рыков расстрелян, А.Г. Шляпников расстрелян, П.Е. Дыбенко расстрелян, И.А. Теодорович расстрелян, В.А. Антонов-Евсеенко расстрелян, Н.В. Крыленко расстрелян, Г.И. Опоков расстрелян… В ходе политико-экономических процессов 1930-х годов пошли под нож Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин и другие.
«Похлебку классовой борьбы», пользуясь формулой Я. Смелякова, Сталин продолжал варить до конца жизни. Уже действительно старым и больным человеком, пережившим инсульт, они просил ХIХ съезд КПСС освободить его от должности Генерального секретаря партии, но делал это перед онемевшими от ужаса делегатами скорее по давней привычке провокационно проверять реакцию ближнего круга (примерно так он спаивал участников своих застолий, сам оставаясь совершенно трезвым), нежели сообразуясь с реальным состоянием своего здоровья. Иначе зачем бы на сугубо секретном пленуме ЦК, собранном сразу после съезда (материалы его до сих пор закрыты и известны только по отрывочным воспоминаниям участников, не решавшихся записывать происходившее на их глазах), «дряхлый» Сталин, без бумажки, произнес эмоционально-злобную полуторачасовую речь, с ее главным тезисом: классовая борьба и по сей день продолжается, причем не где-нибудь, а в самом Политбюро. При этом он набросился на ближайших сподвижников: обвинил Микояна в пособничестве крестьянству, которого тот предлагал освободить от каких-то налогов, якобы полагая, что мы что-то им должны, тогда как они кругом должны нам (не отпускала большевиков, вслед за Лениным, до конца жизни ненависть к этому классу!), а Молотова — в готовности передать Крым евреям и разглашении государственных тайн своей жене-еврейке (которая, кстати, при молчаливом согласии мужа уже свое отсидела), а так же данного на Западе врагам, не иначе как в «подпитии», обещания начать издание в СССР буржуазных газет и журналов. Выразительно написал об этом в своих воспоминаниях К. Симонов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: