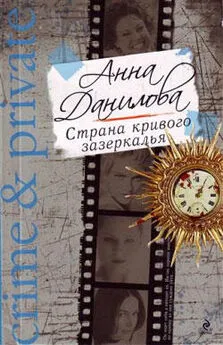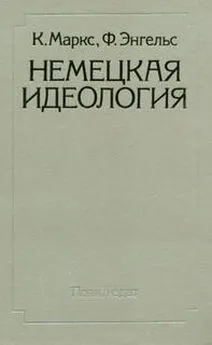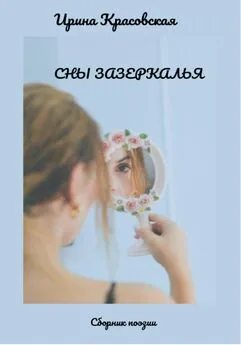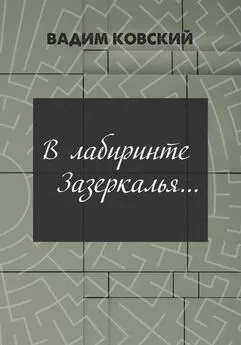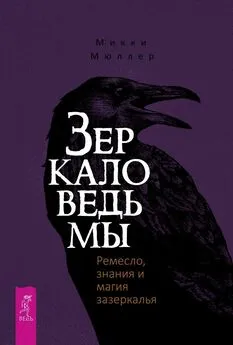Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья
- Название:Идеология Зазеркалья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья краткое содержание
Идеология Зазеркалья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мощнейший пропагандистский аппарат, созданный советской властью, с одной стороны, и полная закрытость страны от внешней информации, с другой, зачастую совершенно искажали представления «простых» людей о реальной советской действительности. В немалой степени была дезориентирована и культурная элита, имевшая, казалось бы, и доступ к западной прессе, и возможности поездок за границу. Уже незадолго до смерти Константин Симонов, размышляя о своем поведении в разные годы и явно мучаясь воспоминаниями о Сталине, в образе которого никак не мог свести концы с концами, все время подчеркивал, что у людей его поколения, как и он, сотрудничавших с властью, было одно серьезное оправдание — незнание: они видели парадную, лицевую сторону советской истории и знали только то, что тоталитарное государство, отгородившееся от мира железным занавесом и таким же внутренним железным занавесом отгородившее темную, преступную сторону своей деятельности от своих граждан, считало нужным им сообщать.
Симонов подумывал даже о романе, который строился бы как многоголосый диалог между разными его «Я» и, в известной мере, разными людьми, поскольку в 1936 году его представления о советской действительности, его поле зрения, его отношение к власти были одними, в 1946-м — другими, в 1956-м — третьими. В логике Симонова и, тем самым, в его оправданиях был какой-то резон: тоталитарные государства — структуры закрытого типа, их взаимоотношения с обществом во многом строятся на сознательном утаивании правды или прямой лжи. Персонажи, облеченные властью, вовсе не стремятся выйти на площадь, чтобы публично оповестить народ о своих злодеяниях, и умело запутывают следы.
Так, в частности, фиктивная замена приговора «Расстрел» на «Десять лет без права переписки» как нельзя более ярко свидетельствовала о сокрытии преступления и страхе перед возможным возмездием. Но одного эвфемизма было явно недостаточно — карательные органы прилагали немалые усилия и для дальнейшей маскировки своих действий: реальные даты смерти в справочниках и энциклопедиях искажались, чтобы читатели не могли соотнести их с хронологией репрессий; родственникам выдавались ложные медицинские заключения о причинах смерти узников; агенты Лубянки прикидывались людьми, недавно вышедшими на свободу, и с подробностями рассказывали о том, как видели в лагерях давно расстрелянных Исаака Бабеля или Михаила Кольцова…
Страшная правда целенаправленно преображалась и в «следственных делах» — папках с надписями «Совершенно секретно» и «Хранить вечно». Зачем нужно было «хранить вечно» фальсифицированные допросы, не вполне понятно. Трудно заподозрить советскую власть в наивности, но, вероятно, все-таки предполагалось, что будущие читатели поверят показаниям и подписям в следственных делах и это когда-нибудь спасет палачей от суда потомков. В Третьем рейхе «тыловые» немцы, непосредственно не воевавшие на территории Европы, с ужасом узнавали о газовых камерах Освенцима, перчатках из человеческой кожи и т. п. по материалам Нюренбергского процесса. Точно так же, ужасаясь и поражаясь, перелистывали, я думаю, в эпоху российских реабилитаций «следственные дела» исследователи и родственники осужденных…
Тем не менее, те, кто хотел знать правду о происходящем в России 1920—1930-х гг., в том или ином объеме ее знали. Аресты по большей части производились ночами, но люди наблюдали за подъезжающими «воронками» из окон домов, месяцами простаивали с передачами для арестованных родственников у приемных окошек тюрем. Для ареста было достаточно бездоказательного доноса, и сами цифры репрессий дают представление о невероятной численности доносчиков, движимых сплошь и рядом своими практическими интересами.
Главные процессы шли публично и широко «освещались» государственной прессой, протоколы некоторых из них публиковались в книжном варианте и были вполне доступны. Показания добывались под пытками, официально разрешенными Сталиным. Юридическая защита по приговорам Военной коллегии Верховного суда СССР была запрещена, и расстрелы совершались немедленно после их вынесения. Долгое время попадали под жестокую расправу и ближайшие родственники осужденных, так называемые «чсиры» — члены семей изменников Родины. На заводских и колхозных собраниях трудящиеся «массы» призывали жестко покарать вредителей и изменников.
Помимо общего тумана в головах людей была массовая потребность потокам лжи верить. Однако имеющие уши — внимательно слушали, имеющие глаза — видели и читали, причем зачастую читали между строк (это чтение было, если правильно вычислить код, уже само по себе хорошим источником информации и характернейшим свойством умонастроений советской интеллигенции).
5.ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В СТАЛИНСКОЙ РОССИИ
С посещавшими СССР в конце 1920-х и в 1930-е годы известными деятелями западной культуры советская власть вела ту же самую политику, что и с собственными: им показывали хорошо подготовленные «потемкинские деревни». Самых главных подвергали сильнейшему психологическому воздействию, устраивая аудиенцию у Сталина. Желаемых результатов во внешнем мире, однако, удавалось добиться далеко не всегда и отнюдь не так легко, как в родном отечестве. Не легко, но удавалось.
Кадры кинохроники 1930-х годов запечатлели зацелованного радостными советскими доярками Бернарда Шоу на фоне колхозных полей и тучных коров. Возможно, в этом состоянии он и продолжал пребывать, когда писал, что часовой в Кремле был единственным солдатом, которого он видел в России, или что русская революция прошла без тени вандализма, а инженеры-саботажники наказывались работой на своих же предприятиях. Впрочем, можно ли доверять этим «показаниям» умнейшего и остроумнейшего мыслителя Шоу…
Анри Барбюс посвятил Сталину восторженную книгу, восхищаясь его скромностью и аскетическим бытом. Лион Фейхтвангер, вечный изгнанник, бежавший из гитлеровской Германии во Францию после прихода Гитлера к власти, а потом, после оккупации Гитлером Франции — в Америку, утратил на фоне наступавшего на Европу фашизма способность трезво оценивать обстановку в России, а может быть, и сознательно наступал себе на горло, когда воспевал в «Москве 1937» не только масштабы личности Сталина, но даже высокое юридическое качество и гуманность сотрясающих Россию политических процессов. Глядя на обвиняемых, «холеных, хорошо одетых мужчин, с медленными, непринужденными манерами» («Они пили чай, из карманов у них торчали газеты»), Фейхтвангер открывал глаза западным журналистам, подозревавшим здесь какую-то постановочность: «Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности…».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: