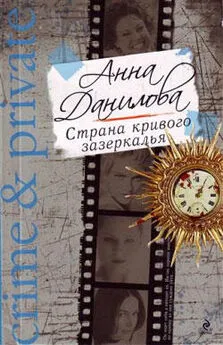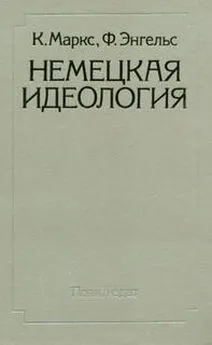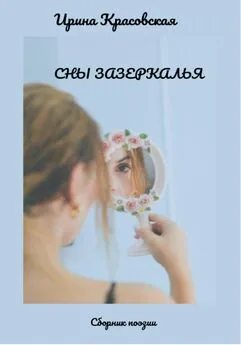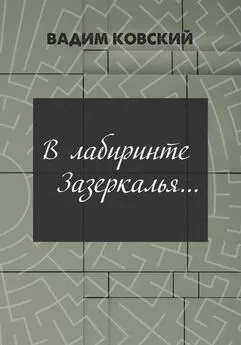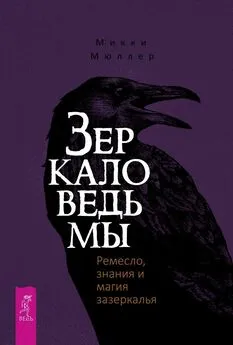Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья
- Название:Идеология Зазеркалья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья краткое содержание
Идеология Зазеркалья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иногда «вхождение» колоний в состав России действительно было добровольным — стоит вспомнить Георгиевский трактат (Грузия при Ираклии II спасалась от наступления мусульманского мира) или учесть, что в условиях военных угроз и национальных междоусобиц малые этносы вынуждены были постоянно искать покровительства и защиты у более крупных и сильных. С другой стороны, какое же это «добровольное вхождение», если история завоевания Кавказа длилась десятилетиями? Если восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане, когда сотни тысяч крестьян — киргизов, казахов, туркменов — бежали в Китай и Персию, гибли от голода и холода во время перехода через горы, было свирепо подавлено царскими карательными отрядами, а освободившиеся земли генерал-губернатор Туркестанского края Куропаткин отдал русским переселенцам?
Нет, как правило, империи на «добровольных» началах не расширялись, сколь бы этот факт ни противостоял нашему вечному стремлению «улучшать» и лакировать отечественную историю, пытаясь уложить ее в единый патетический по тону своему учебник. При этом как бы забывается, что по такому единому учебнику истории мы практически учились все семьдесят лет советской власти и сейчас начинаем все снова и снова обсуждать саму его возможность и концепцию с такой страстью, будто этот плод свалился нам на голову неожиданно, как Ньютоново яблоко. Для характеристики процесса образования империи в советском учебнике истории давно уже был найден совершенно спокойный и нейтральный термин: вместо «завоевания» — «присоединение», хотя и в нем присутствовала некоторая неловкость (раз «присоединение» — значит, кто-то «присоединил», и возможно, не испросив на то разрешения «присоединямого»). Какую-то тень на лозунг «дружбы народов», в чьих лучах мы грелись на протяжении семидесяти лет российского социализма, даже это понятие так или иначе наводило, и я помню с юных лет, поскольку жил тогда в национальной республике, как «присоединение» стали заменять поистине умиляющей своей бесконфликтностью и гуманностью формулой — «добровольное вхождение в состав России».
В результате ревоюции царская империя стремительно рассыпалась, но советская диктатура уже не нуждалась в трех столетиях, чтобы ее восстановить. «Триумфальное шествие советской власти», о котором писали наши учебники истории, было, по существу, триумфальным броском Красной Армии по бывшим ее территориям, где не только стремительно устанавливался новый социальный порядок, но и сами территории столь же стремительно возвращались в материнское лоно. К середине 1920-х гг. было окончательно подавлено сопротивление, с которым Советы столкнулись в некоторых регионах (в Закавказье, в частности, в 1918 году возникли свои национальные правительства; дважды провозглашалась и свергалась силами национального сопротивления советская власть на Украине; грузины восставали еще и в 1924 году; с 1920-го по 1922-й год на тихоокеанской окраине России функционировало — со своим правительством — такое странное государственно-территориальное образование, как Дальневосточная республика, и т. п.). В Латвии, Эстонии и Литве советская власть продержалась недолго: ее сменили собственные национально-буржуазные правительства. В 1940 году Сталин, однако, вновь присоединил прибалтийские республики к Советскому Союзу и тем самым, по существу, завершил процесс воссоздания Российской империи в прежних, дореволюционных, границах.
Параллельно с присоединениями и подавлениями, уже с середины 1920-х Сталин принялся перекраивать внутреннюю территорию страны, исходя всякий раз из политических, административных или властных интересов России, менее всего связанных с конкретными национальными потребностями. Нагорный Карабах был отнят у Армении и передан Азербайджану. Северная Осетия оказалась в составе РСФСР, а Южная — Грузии. В одну автономную республику объединялись народы с разными языками, способными общаться друг с другом лишь через русский (Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария). Республики то повышались в статусе, становясь из автономных союзными (в Средней Азии), то, напротив, понижались (Абхазия из союзного подчинения перешла в республиканское, превратившись в грузинскую автономию, — так были заложены предпосылки многолетней борьбы абхазов с Грузией). Подчас территории республик кроились буквально из кусков, подобно лоскутному одеялу: «грандиозный опыт национального размежевания», как писала об этом с восторженным придыханием Малая советская энциклопедия 1929—1930 гг. Города и целые области с мононациональным населением оказывались включенными в инонациональную среду, имевшую право государственного приоритета (спустя полвека эта политика отозвалась, в частности, кровавыми столкновениями с узбеками на юге Киргизии…).
Марксизм в XX веке, с его непомерно раздутым классовым принципом (согласно «Манифесту Коммунистической партии» рабочие вообще не имеют ни национальности, ни отечества), оказался антиподом не только расистских теорий, но и многочисленных философско-антропологических, психологических, экзистенциальных концепций, выводящих этнокультурную проблематику за рамки узкосоциальных мотиваций и обращающих ее к самой природе человека. Ленин продолжил работу по искоренению в понятии национального родовой, человеческой, доминанты своим учением о «двух культурах». Сталин подверг марксистскую интерпретацию национального дальнейшему теоретическому упрощению и огрублению.
В самой практике создания многонационального государства «один чудесный грузин» (как его неосмотрительно наименовал когда-то Ленин), ставший первым советским наркомом по делам национальностей в ленинском правительстве, уже в начале 1920-х гг. далеко ушел от теоретических тезисов своей работы 1913 года «Марксизм и национальный вопрос», где отстаивал «полную демократизацию страны как основу и условие решения национального вопроса», «право самоопределения», «национальное равноправие во всех его видах» и пр. В связи с острейшими спорами по поводу «автономизации», развернувшимися в 1922 году (в противовес ленинской установке на равные права всех наций в предстоящем «союзном» объединении Сталин предлагал ограничить эти права «автономией»), уже больной и слабеющий Ленин настаивал на том, что интернационализм «великой нации» не просто сводится к соблюдению «формального равенства», но и налагает на нее обязанность возместить «национальным меньшинствам» «то неравенство, которое складывается в жизни», и фактически вынужден был признаться — в совершенно не свойственном ему тоне — что «сильно виноват перед рабочими России», поскольку вовремя не увидел необходимости «защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: