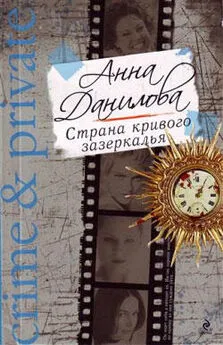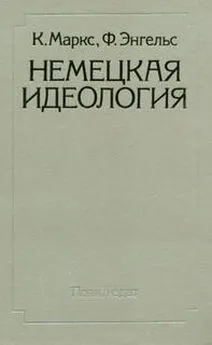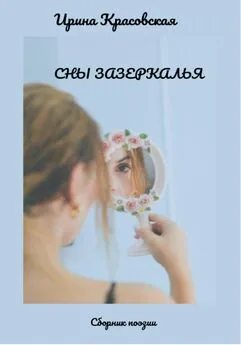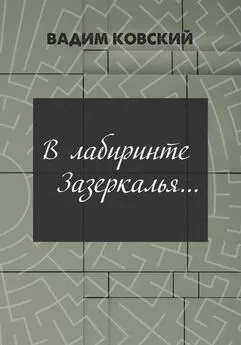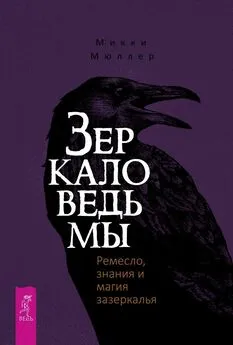Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья
- Название:Идеология Зазеркалья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья краткое содержание
Идеология Зазеркалья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Жаль, что замечательному прозаику не довелось прочитать чудом сохранившееся заявление В.Э. Мейерхольда Молотову, где знаменитый режиссер описывал, как палачи его пытали, а потом вместе с жертвой стряпали материал допросов и сооружали лживое обвинительное заключение. Сталинские режиссеры обучали актеров ускоренными методами.
В своей апологетической книге, однако, Фейхтвангер не мог не удивляться «нескончаемой веренице колоссальных портретов Сталина, плывущих над головами людей», «огромному количеству статистов, запевающих перед императорской ложей гимн во славу Сталина» (Фейхтвангер даже назвал главку в своей книге — «Сто тысяч портретов человека с усами»). Сталин, однако, снисходительно извинился за чрезмерное ликование народа и объяснил недалеким западным литераторам, что эту шумиху терпит лишь потому, что знает, какую наивную радость доставляет ее устроителям (крестьяне и рабочие еще не успели «развить в себе хороший вкус»). Поистине, вызывающая слезы умиления сентиментальная картина: отец, играющий на лужайке с любимыми детьми!
Воспевший Россию 1937 года, Фейхтвангер увиденное в СССР объясняет «мелкими неприятностями». Хотя сам он иногда тоже позволяет себе кое-какие замечания, но делает их почти шепотом: «…у него (у Сталина. — В. К.), видимо, имеются внутренние противоречия, и ничто человеческое ему не чуждо»; ведь в разговорах о «конформизме» и даже в «психозе вредительства» есть «крупицы правды». Осторожно оговариваясь, что в отдельных произведениях советской литературы присутствует «стандартизированный оптимизм», он испуганно замечает в скобках: «Не считаю полезным», когда государство «принуждает художника к соблюдению генеральной линии». И даже вдруг: «…Люди, заслуживающие доверия, говорили мне, что эта свобода (в СССР. — В. К.) на практике имеет весьма растрепанный и исковерканный вид…».
А можно ли безусловно доверять оценкам сталинского социализма у Ромена Роллана? «Конформизм» Роллана должен быть правильно понят. На протяжении ряда лет Роллан вел дневник, который разрешил публиковать после своей смерти не раньше 1985 года. Между тем, он писал в дневнике конца 1937 года: «В течение полутора лет (точнее — со времени смерти Горького) развернулся террор, который свирепствует по всему СССР. <���…> Смертельная тревога завладела всей жизнью Союза». Больше всего Роллан боялся ослабить, как замечает Н. Эйдельман, антифашистский фронт (эта коллизия гитлеровской опасности, которой как бы противостоял всерьез только Советский Союз, несмотря на дипломатически дружественные отношения Сталина с Гитлером, многих в Европе тогда сбивала с толку). Надо также учесть, что Роллан посетил Россию в 1935 году и многое из того, что ужаснуло и потрясло чуть позже всех, даже дружественно настроенных к большевикам, западных писателей и журналистов, еще видеть не мог (всего год спустя Стефан Цвейг напишет ему: «… в Вашей России Зиновьев, Каменев, ветераны революции, соратники Ленина, расстреляны, как бешеные собаки… Вечно та же техника, как у Гитлера…»).
Стараясь не высказывать своих настроений в Москве, Роллан вспоминал, например, в дневнике о провожавшем его на вокзал Горьком с ощущением, что если бы Горький имел право говорить, то, наверное, упал бы к нему на грудь и заплакал… Многие записи Роллана имеют острокритический характер: «Коммунистическая партия рискует превратиться в особый класс и, что вполне серьезно, — в привилегированный класс». При всей своей осторожности Роллан при встрече со Сталиным, хоть и крайне деликатно, коснулся болезненных для того тем: необъяснимых и необъясненных репрессий после смерти Кирова; Указа о подсудности детей вплоть до расстрела начиная с 12 лет («отдельных хулиганствующих групп детей», по замечательной характеристике вождя); о добрых отношениях с реакционным французским правительством, которые могут быть использованы против Французской коммунистической партии. И совершенно не случайно на стенограмме беседы с Ролланом, где писатель выглядит достаточно бледно и «соглашательски», Сталин, тем не менее, собственной рукой начертал: «Секретно. Не для печати».
В отличие от Роллана и Фейхтвангера, Герберт Уэллс побывал в России трижды и наблюдал ее еще с дореволюционных времен. Он был автором знаменитой «России во мгле», человеком, который беседовал не только со Сталиным, но и с Лениным, назвав его «кремлевским мечтателем». Дивясь, ужасаясь увиденному в революционной России, он дал ей самую высокую оценку, такую, какую только мог дать этот всемирно известный западный демократ и либерал.
Беседа Уэллса со Сталиным в июле 1934 года, немедленно изданная отдельной брошюрой, вызвала, однако, у английского фантаста, судя по всему, чувство досады и раздражения. Конечно, Сталин умел произвести на всех, кто удостаивался приема, сильное впечатление — тут и Уэллс, и Роллан, и Фейхтвангер единодушны. Этого впечатления Уэллс и не скрывает — ожидал-де увидеть фанатика, деспота, диктатора, а увидел «человека искреннего, порядочного и честного». Однако он был единственным из писателей, кто решился вступить с советским лидером «на равных» в большой теоретический спор. Спор этот касался не только судьбы революции в России, но и мирового противостояния двух систем, судьбы человечества в целом, и разворачивался он главным образом вокруг путей развития и соперничества России с Америкой. Трудно придумать более актуализированную нынешним днем тему!
Уэллс стоял на позициях европейской социал-демократии, противопоставляя идеям непримиримой классовой борьбы, отстаиваемым Сталиным, возможность эволюции, мирного движения капитализма навстречу социалистическим идеям и принципам организации труда. Возможность, как выразились бы полвека спустя, конвергенции.
«Я возражаю против упрощенной классификации на богатых и бедных», есть «многочисленный класс попросту способных людей, сознающих неудовлетворительность нынешней системы», талантливая техническая интеллигенция, «колоссальные силы науки и техники, — утверждал Уэллс. — Мне кажется, что вместо того, чтобы подчеркивать антагонизм между двумя мирами, надо бы в современной обстановке стремиться установить общность языка между всеми конструктивными силами». «Пропаганда насильственного свержения общественного строя старомодна <���…>. Надо бы сделать ударение на эффективности, на компетентности, на производительности». Кажется, будто Уэллс только что прочитал Маркса!
Интеллигенция может быть полезна, но «может приносить и большой вред», — замечает в ответ Сталин. Дело не в ней. «Старый общественный строй не рухнет сам собой», его надо свергнуть, а для этого необходим «большой революционный класс», рабочий класс, возглавляемый «революционным меньшинством», партией, — преподает Сталин азы ленинизма матерому европейскому либералу. Ссылаясь на уроки истории, он вспоминает опыт Англии ХVII века, Кромвеля, казнь короля, разгон парламента («арестовывал одних, обезглавливал других», — одобрительно отзывается он о заслугах Кромвеля), «революционную законность» Великой французской революции, явно имея в виду неустанную работу гильотины, и, наконец, обращается к российским урокам: «Сколько крови понадобилось нам, чтобы сломить царский порядок!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: