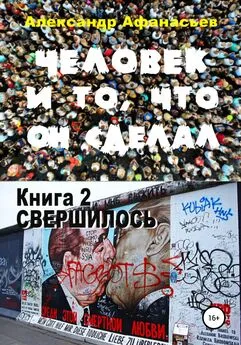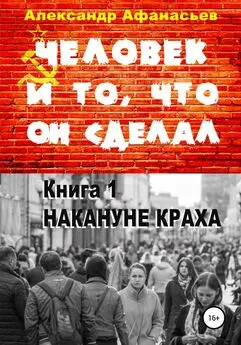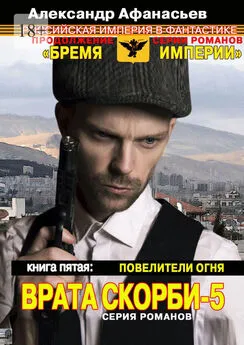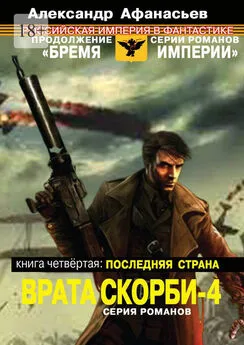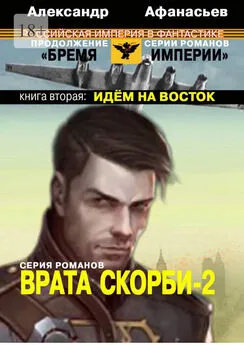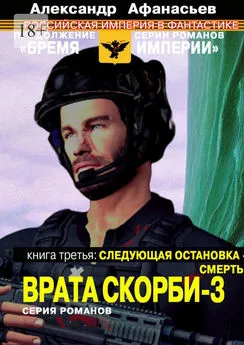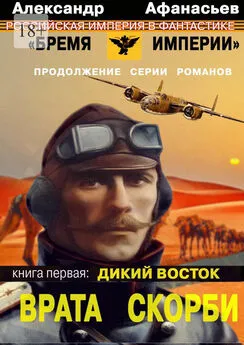Александр Афанасьев - Человек и то, что он сделал… Книга 1. Накануне краха [litres]
- Название:Человек и то, что он сделал… Книга 1. Накануне краха [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Остеон
- Год:2019
- Город:Ногинск
- ISBN:978-5-900782-25-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Афанасьев - Человек и то, что он сделал… Книга 1. Накануне краха [litres] краткое содержание
Человек и то, что он сделал… Книга 1. Накануне краха [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
…
Иными словами – при первой модели хозрасчета ФОТ формируется как гарантированная доля прибыли предприятия, оставшаяся у него до всех обязательных выплат. А после всех обязательных выплат – формируется еще и фонд материального стимулирования – то есть премиальный фонд. При второй модели хозрасчета – сначала уплачиваются все обязательные платежи, только потом формируется весь ФОТ. То есть, если предприятие работает плохо, зарплаты может не быть вовсе.
При арендной форме хозрасчета – трудовой коллектив перечисляет государству – собственнику предприятия арендный доход за предприятие, после чего оставшимися деньгами распоряжается самостоятельно.
Ключевой уязвимостью всех моделей было то, что расчеты производились не кассовым методом – а по начислению. Обратите внимание у Полоцкого – трудовой коллектив «не виноват», если он отгрузил продукцию, а смежник не расплатился. А кто тогда виноват? В капиталистической экономике «виноват» собственник – рабочие трудились и свою заплату – или расчет, если предприятие нерентабельно – должны получить в любом случае. Собственник в свою очередь разбирается с топ-менеджментом, который не обеспечил финансовую стабильность предприятия. Тут же вопрос «что делать?» ставится, а ответа на него нет. Хотя вопрос исполнения обязательств быстро становится критическим – после дерегулирования системы по стране валом идет кризис неплатежей. Нормальной же системы борьбы с ними – суд, банкротство, приставы – нет. В результате – самые недобросовестные понимают, что можно не платить – и не платят. Часто не потому что не могут – а потому что всеми силами аккумулируют средства, и не для себя – а для менеджмента, для теневых владельцев, для сына директора на сбытовом кооперативе…
Хозрасчет поставил перед всеми нами вопрос – если мы все хорошо работаем, то почему у нас все так плохо. Ведь так же быть не может? В поисках ответа на этот вопрос мы зашли слишком далеко… или даже не так – приняли совершенно неверные решения исходя из того что увидели. После того, как хозрасчет был худо-бедно внедрен на предприятиях – был поставлен вопрос о региональном хозрасчете, о том, куда идут деньги, взимаемые на общественные фонды, и как они там расходуются. Это уровень района, города, максимум республики. Люди вдруг начинают интересоваться цифрами, узнают сколько денег уходит в центр – потом смотрят вокруг себя и видят раздолбанные дороги и деревянные бараки. Людям хочется как то урегулировать отношения между тем что они видят и тем что выше. Так возникает модель регионального хозрасчета.
…
Владимир Каганский «Прыжок в неизвестность»
Идеология регионального хозрасчета, сколько бы над ней не потешались два-три года назад, выражала вполне реальные требования регионов. Они стремились к полноте прав владения и распоряжения в сущности самими собой, всей полнотой региона, его пространства, ресурсов, фондов и т. п. Этот лозунг по-советски замещал классическую буржуазную идеологему частной собственности. Региональный хозрасчет – освобождение региона, как собственника, от бремени уз, одновременно надрегионально-государственных и идеологических. Как право частной собственности относится прежде всего к самому собственнику, который сам свободен и ничьей собственностью не является, так и требования регионального хозрасчета относились прежде всего к праву региона самому собою распоряжаться. Регионы требовали себе того, что для личности со времени буржуазных революций называется свободой – принадлежать только себе и распоряжаться собственностью независимо от всего на свете. Требование свободы собственности для региона – как и для личности – означало и свободу от идеологии.
Практика и политика регионального хозрасчета (тем более самостоятельности регионов) реализовывалась и реализуется сейчас совершенно безотносительно других компонентов идеологической матрицы. Мы видим ее как совершенно тождественную у националистов, национал-демократов, демократов просто, прогрессистов, коммунистов и даже у фундаменталистов. Приватизация логично замещается в этом случае идеологически нейтральной регионализацией.
Право владеть предполагает и право пользования и распоряжения – отсюда и идеологическая санкция на практику прямых хозяйственных отношений между регионами. Это и означает конституирование регионов как экономических субъектов. Всего за два-три года бартер стал осознаваться и декларироваться уже не только и не столько как вынужденная мера, но как твердое и несомненное право. Теперь это именно право, которое можно отнять только как право, а не просто запретив некую практику. Возможно, именно практика бартера и сформировала обыденно-правовые отношения региональной собственности.
Политика и практика суверенитета осуществляется уже давно всеми, а не только этноадминистративными (национально-государственными) регионами. Попытки ее регламентировать и санкционировать, дабы управлять и использовать (центральной властью) наполняют сюжет федерализации Российской Федерации точно так же, как до этого безуспешно заполняли мечтания о федерализации СССР.
Припомнив, в чем выражается эта практика, мы поймем, что и здесь место личности занял регион. Личность абсолютно неделима и не содержит каких-либо отчуждаемых частей. Но именно сейчас требование неделимости регионов (республик в том числе и особенно) защищается с такой яростью, которую нельзя понять, не предположив отождествления субъекта типа личности и региона. Отсюда и сомнительные в правовом и фактическом отношении идеи полной, абсолютной даже не самостоятельности, а скорее неприкосновенности кого бы то ни было к их внутренним делам, хотя очевидно вроде бы, что само существование государств с их договорными отношениями предполагает относительность любого суверенитета.
Регионы, власти которых не в силах обеспечить элементарную безопасность на улицах своих столиц, тем не менее защищают самую идею неприкосновенности как нечто священное. Попытки поставить выше их суверенитета какие-то юридически действительно выше стоящие требования международного права, нормальную идеологию и практику прав человека всюду воспринимаются как кощунство и посягательство на их неотъемлемые права. Регион как бы оказывается личностью в некоем "высшем смысле", в чем состоит один из главных путей символизации и идеологизации (а для этнорегионов – и сакрализации) их интересов.
Все собственно идеологические мотивы, свойственные обычным социально-политическим идеологиям, для идеологии "регионализма" сугубо инструментальны. Региональный хозрасчет, регионализм и суверенитет политически всеядны и со всем сочетаемы. В этом смысле регионализм – метаидеология, а любая идеологическая доктрина для нее – лишь способ реализации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Афанасьев - Человек и то, что он сделал… Книга 1. Накануне краха [litres]](/books/1076334/aleksandr-afanasev-chelovek-i-to-chto-on-sdelal-k.webp)
![Александр Афанасьев - Тьма под солнцем [litres]](/books/1065352/aleksandr-afanasev-tma-pod-solncem-litres.webp)
![Александр Афанасьев - Человек и то, что он сделал… Книга 2. Свершилось [litres]](/books/1076333/aleksandr-afanasev-chelovek-i-to-chto-on-sdelal-k.webp)
![Александр Афанасьев - Врата скорби. Следующая остановка – смерть [litres]](/books/1077552/aleksandr-afanasev-vrata-skorbi-sleduyuchaya-ostano.webp)