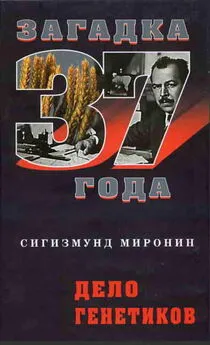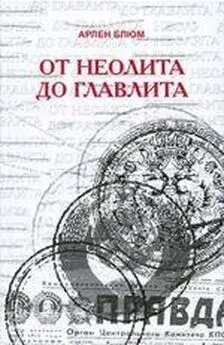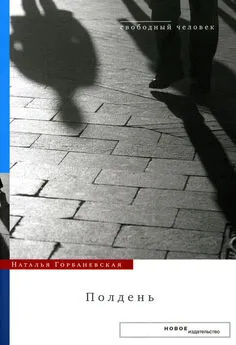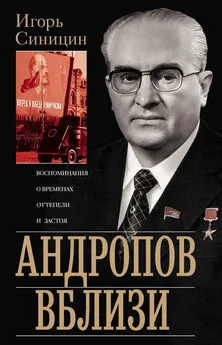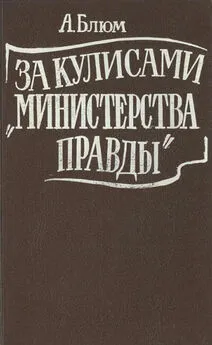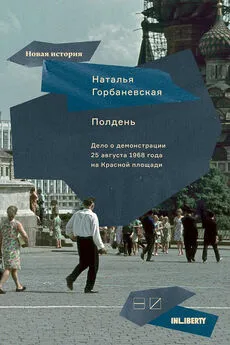Арлен Блюм - Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки
- Название:Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гуманитарное агентство «Академический проект»
- Год:2005
- Город:СПб
- ISBN:5-7331-0329-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арлен Блюм - Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки краткое содержание
Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Множество хлопот доставляло начавшее развиваться в 50-годы телевидение. Помимо официального цензора, приставленного к телестудии (до начала 90-х годов единственной в городе), контролирующие функции выполняли сотрудники, которые официально назывались очень интересно: «сотрудники доэфирного контроля», такие, если слегка переиначить Лермонтова, «вольные сыны доэфира». Политический и идеологический контроль затруднялся на первых порах тем, что передачи часто шли «вживую», и не только трансляции спортивных матчей. Для того чтобы искоренить «политические прорывы», редакции должны были заранее представлять на предварительный контроль предполагаемые к трансляции тексты. Забавную историю рассказал знаменитый кинорежиссер Милош Форман, подвизавшийся в молодости (в 50-е годы) на пражском телевидении. По его словам, все тексты должны были утверждаться цензорами Управления по делам прессы, аналогом нашего Главлита. Для этой цели составлялись соответствующие формы в двух экземплярах: «Копия оставалась у них, и они следили за тем, чтобы все было точно. Дошло до того, что потребовали текст для выступления жонглеров, которые, как известно, производят манипуляции молча. И все-таки они должны были заполнить соответствующую форму. Они вернули мне бумагу, улыбаясь до ушей. Вот что там было написано: “Эй! Ой! Ух! Ух! Ух! Гоп, гоп, гоп!”. Спустя несколько дней оригинал пришел с нужным штампом» [71] Форман М. Круговорот // Иностранная литература. 1995. Nq 4. С. 108.
. Нечто подобное, видимо, существовало и в отечественной практике, тем более что Советский Союз выступал в этом, как и во многих других отношениях, «законодателем мод» для «стран народной демократии». Что и говорить, — и это не анекдот! — если одно время Ленгорлит требовал от конферансье эстрадных представлений и инспекторов цирковых манежей тексты экспромтов (!), которые они собираются произносить во время представлений.
Разбор «проколов» шел уже постфактум, но от этого сотрудникам не приходилось легче: следовали «оргвыводы», часто влекшие за собой не только выговоры и предупреждения, но и — в острых случаях — увольнения проштрафившихся сотрудников. Как и для печатных средств информации, здесь существовал запрет на имя, в данном случае — его произнесение или «изображение» с помощью телевизионной картинки. Проиллюстрировать это можно опять-таки с помощью шахматной тематики. Гроссмейстер Виктор Корчной, оставшийся в 1976 г. в Голландии, тотчас же стал «нелицом». Его фамилию тотчас запрещено было произносить. Когда в 1978 г. он играл матч на первенство мира с Карповым, то об этом писали (или сообщали) так: «В очередной партии матча в Багио А. Карпов, играя белыми, начал ходом е-два — е-четыре. Претендент сыграл е-семь — е-пять». Наблюдавшие тогда за матчем помнят, что на телевизионном экране за шахматной доской виден был только Карпов: лица Корчного не видно. Более того, из кадра убрана даже табличка с его именем. Кто-то сочинил по этому поводу такое четверостишие:
И вот они: один — герой народа,
Что пьет кефир в критический момент,
Другой — злодей без имени и рода
С презрительным названьем «претендент» [72] Об этом см.: Харитон Л. Затянувшаяся месть семидесятых // Русская мысль (Париж). 1999. № 4277. 8—14 июля.
.
Только после того, как в прессе последовали разгромные статьи (матчи сопровождались скандалами), — Корчного, наконец, разрешали именовать по фамилии.
Вычеркивались не только имена, но и целые страны. В связи с очень сложными отношениями с Китаем велено поменьше упоминать эту страну, а еще лучше — вообще ее не называть. Кирилл Набутов, работавший тогда спортивным комментатором, рассказывал мне, что сообщения о спортивных играх с китайцами выглядели примерно так: «Вчера сборная СССР в очередном матче победила 3:1. Самой сложной был вторая партия, выигранная соперниками нашей команды со счетом 15:5» (чемпионат мира по волейболу 1977 года). То же самое касалось и сообщений об играх с командами Израиля.
Наибольшее раздражение контролеров вызывала редакция литературно-драматического вещания. С огромнейшим трудом сотрудникам удавалось «протаскивать в эфир» запретные или полузапретные имена ряда писателей. Несмотря на то что, например, Осип Мандельштам был вроде бы реабилитирован, любое напоминание о нем вызывало скандал на местном уровне. Как и в других случаях, огромное значение имели сиюминутные политические соображения. Одна из сотрудниц, рассказывая о 60-х годах, вспоминает, что в «…последний момент могла быть снята передача “Военная галерея 1812 года” — по той причине, что “у нас слишком хорошие отношения с Францией, чтобы вспоминать, что мы когда-то воевали”» (?!). А передача «Английский портрет XVIII века» оказалась запрещенной, напротив, потому что «у нас с Англией сейчас достаточно напряженные отношения» [73] См. неопубликованные воспоминания Татьяны Ливановой «Телевидение — любовь моя (1963–1973)».
.
И. А. Муравьева, также работавшая в 60-е годы в этой редакции, в очерке под выразительным названием «Как нас отучали от правды» рассказывает о постоянных обкомовских разносах, которым подвергалась передача «Литературно-драматический Ленинград». В частности — за пропаганду «антивоенных песен» Булата Окуджавы и постановку рассказа В. Тендрякова «Ухабы». В числе «идеологических ошибок», отмеченных в специальном решении обкома партии, указаны «пропаганда формализма и абстракционизма, пропаганда творчества поэтов-формалистов В. Сосноры, Р. Рождественского, Е. Евтушенко» [74] Нева. 1991. № 5. С. 158–171.
.
На долгие годы запомнился скандал с «Литературным вторником», прошедшим в эфир 4 января 1966 года. Т. Ливанова считает эту дату «рубежом, положившим конец золотому веку Ленинградского телевидения и правления его легендарного директора Бориса Максимовича Фирсова. Режиссер — Роза Сирота, а я ассистент. Единственный в моей практике случай, когда прямо в эфире раздался звонок верховного партийного начальства с требованием прекратить передачу. За что нас судили так строго, теперь понять трудно — за невинные воззвания любить и беречь русский язык и родную речь, за одно лишь упоминание имен Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой… Дикость, конечно, дикость, но помню, было по этому случаю специальное заседание партийного Олимпа, и полетели головы редакторов передачи, главного редактора, директора студии. Началась другая жизнь» [75] Ливанова Т. Указ соч.
.
Эта история вышла далеко за пределы города и вызвала резонанс на самом верху. И. А. Муравьева приводит выдержки из стенограммы специального заседания Госкомитета по радиовещанию и телевидения, на которое были вызваны основные «виновники». Передача была названа «диверсионной вылазкой, направленной против самих основ нашей идейно-политической жизни». Другой выступавший утверждал, что «любое иностранное агентство взяло бы эту передачу и пустило бы в эфир» [76] Муравьева И. А. Указ. соч. С. 169–170.
.
Интервал:
Закладка: