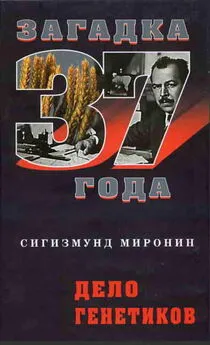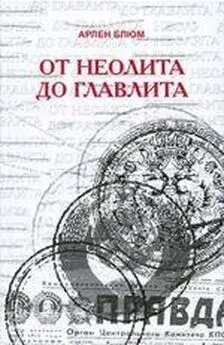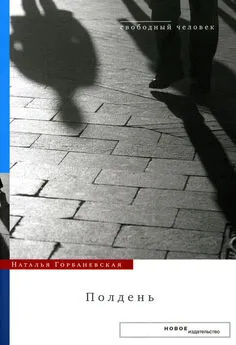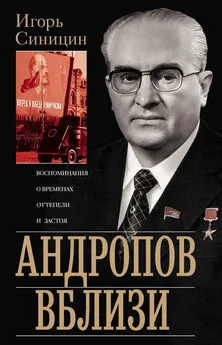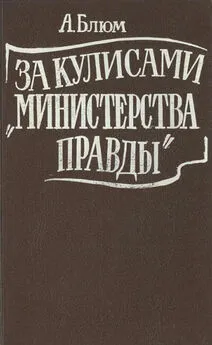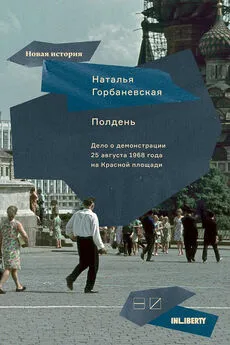Арлен Блюм - Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки
- Название:Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гуманитарное агентство «Академический проект»
- Год:2005
- Город:СПб
- ISBN:5-7331-0329-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арлен Блюм - Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки краткое содержание
Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В том же демагогическом духе звучала «Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС», подготовленная по этому поводу 18 февраля 1966 г. и подписанная, увы, заместителем заведующего этим отделом А. Н. Яковлевым, названного впоследствии «прорабом перестройки» [77] История советской политической цензуры: Документы и материалы. М., 1997. С. 153–155. Справедливости ради стоит заметить, что А. Н. Яковлев (единственный, кажется, из крупных партийных функционеров) смог искренне покаяться.
.
Как принято было в таких случаях, опираясь на «письма трудящихся», в которых они «…справедливо протестуют против допущенных в передаче грубых ошибок и неверных положений», агитпроп подверг передачу настоящему идеологическому разгрому. В «Записке» отмечалось, в частности, что участники передачи (писатели Л. Успенский, О. Волков, В. Солоухин, литературоведы и искусствоведы Б. Вахтин, В. Иванов, Д. Лихачев, Л. Емельянов) заняли в целом неправильную тенденциозную позицию». Они «в развязном тоне потребовали вернуть прежние наименования городам Куйбышеву, Кирову, Калинину, Горькому, высмеивали такие общепринятые сокращения, как РСФСР, ВЦСПС… Выступая за чистоту русского языка, они приводили в качестве его эталона произведения Пастернака, Белого, Мандельштама, Хлебникова, Булгакова, Солженицына, цитировали протопопа Аввакума, но при этом совершено не упоминались имена Чехова, Горького, Маяковского, Шолохова». «Участники передачи, — говорилось далее, — игнорировали элементарную журналистскую этику, отступив от тезисов, утвержденных руководством телевидения в соответствии с существующими правилами. Этот факт использования телевидения в целях пропаганды субъективистских и ошибочных взглядов привел к нежелательным последствиям». В записке одобрено решение Комитета по радиовещанию и телевидению «освободить от работы директора Ленинградской студии телевидения т. Фирсова и главного редактора литературно-драматических программ т. Никитина», а также поручено «подготовить передачу, отражающую марксистско-ленинские взгляды на развитие русского языка и русской культуры».
Эта история, пришедшаяся на самый конец оттепели, означала и окончание каких бы то ни было игр с интеллигенцией. Хотя «золотым веком телевидения» назвать предшествующую эпоху было бы натяжкой, тем не менее, она не идет ни в какое сравнение с наступившими годами застоя и царства серости.
Библиотеки
Политика тотального «библиоцида» — систематического уничтожения громадных и не поддающихся строгому учету книжных запасов страны — в наибольшей степени коснулась общественных библиотек, о чем подробно говорилось в наших предшествующих книгах. После вакханалии первого десятилетия советской власти, когда реквизировались и частично уничтожались «дворянские» и «помещичьи» библиотеки, после того, как в 20-е годы Главполитпросветом были организованы под руководством Н. К. Крупской так называемые «очистки» массовых библиотек от «контрреволюционной» литературы, этот процесс был введен в более или менее «законное» русло. Уже через год после своего создания, в мае 1923 г., Главлит разработал и разослал «Инструкцию о порядке конфискации и распределения изъятой литературы». Вот только два ее пункта: «Изъятие (конфискация) открыто изданных печатных произведений осуществляется органами ГПУ на основании постановлений органов цензуры… Произведения, признанные подлежащими уничтожению, приводятся в ГПУ в негодность к употреблению для чтения, после чего могут быть проданы как сырье для переработки в предприятиях бумажной промышленности с начислением полученных сумм в доход казны по смете ГПУ» [78] ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 9. Л. 7
.
Конечно, это не означало, что все без исключения экземпляры подвергались физическому истреблению: по одному-два экземпляра дозволялось оставлять в отделах специальных фондов (в просторечии — «спецхранов») крупнейших национальных библиотек и научных хранилищ. В библиотеках других типов, а также в книготорговых предприятиях все экземпляры подлежали уничтожению «посредством обращения в бумажную массу», что, оказывается, давало казне кое-какой доход. Начиная с 30-х годов такого рода операции должны были производиться исключительно по особым «Сводным спискам книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети», рассылавшимся Главлитом.
Выделим два основных типа запрета: «персонифицированный» и « содержательный ». В первом случае осуждалось самое имя как таковое, в строй вступал argumentum ad hominem — доказательство «применительно к человеку», не основанное на объективных данных, что, кстати, признавалось несостоятельным еще в римском праве. К числу «нелиц» относились следующие категории авторов:
а) автор подвергся политическим репрессиям (арест, в большинстве случаев закончившийся расстрелом или гибелью в ГУЛАГе);
б) выслан (например, на «философском» пароходе осенью 1922 г., А. И. Солженицын в 1973 г.) или эмигрировал (массовый исход в начале революции, полунасильственная вынужденная эмиграция десятков писателей в 60—80-е гг.);
в) стал невозвращенцем (Ф. Раскольников в 1938 г., А. Кузнецов в 1969-м и др.);
г) автор оставлен под подозрением, попал в идеологический «штрафбат», став жертвой очередной кампании, объявлен нежелательной персоной, попав под обстрел партийных постановлений или официальной критики, — например, Анна Ахматова и Михаил Зощенко после выхода постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» в августе 1946 г., ряд литераторов в конце 40-х гг. в пору «борьбы с космополитизмом».
Основная часть книг, оказавшихся в спецхранах, подпадала под указанный выше пункт «а». Число писателей, подвергавшихся тем или иным политическим репрессиям (часто — со смертельным исходом), огромно. Другие, часто встречающиеся «персонифицированные» мотивы запрещения: а) книга снабжена предисловием, послесловием, вступительной статьей или примечаниями лица, относящегося к перечисленным выше категориям. Многие книги писателей погибли именно по этой причине, поскольку сопровождались статьями «бывших вождей» (чаще всего — Л. Б. Каменева и Н. И. Бухарина) или репрессированных литературных критиков — как сочувствовавших писателям «попутчикам», например А. К. Воронского и Г. Е. Горбачева, так и нещадно преследовавших их рапповских литпогромщиков Л. Авербаха и Г. Лелевича, также попавших в мясорубку 1937–1938 гг.; б) помещена библиографическая реклама книжной продукции (обычно на последней странице или обложке), перечисляющая среди прочего и выпущенные издательством книги все тех же «нежелательных персон»; в) в произведении выводится в качестве литературного персонажа или просто упоминается реальное неугодное лицо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: