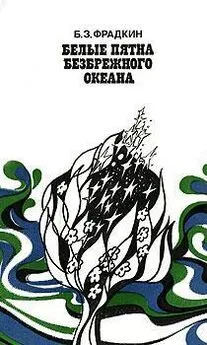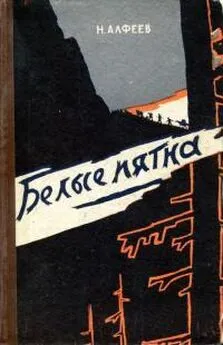Аркадий Ваксберг - Белые пятна
- Название:Белые пятна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Ваксберг - Белые пятна краткое содержание
Белые пятна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Профессорский комментарий был призван поддержать публициста авторитетом науки.
«Порочная и нравственно опасная позиция, — писал Г. З. Анашкин, — требующая «щадить» нападающего преступника, не давать ему активного отпора, к сожалению, существует, у нее немалый исторический «стаж». Именно сторонников такой позиции высмеивал К. Маркс в известном письме к Ф. Энгельсу: «Значит, если какой-либо субъект нападет на меня на улице, то я могу лишь парировать его удары, но не смею побить его, потому что превращусь тогда в нападающего! У всех этих людей в каждом слове проглядывает недостаток диалектики». Нет, обороняющийся не может превратиться в нападающего, если своими активными действиями причиняет вред преступнику — вред, необходимый для отражения противоправного нападения.
Существуют сторонники «бегства» как более «разумной» реакции на нападение, чем активное отражение удара. Эта глубоко порочная точка зрения нашла отражение и в позиции отдельных наших судов, которые полагали, что лицо, подвергшееся нападению, не вправе активно защищаться, если имеет возможность спастись бегством, обратиться за помощью к гражданам, к органам власти или избрать какие-либо иные способы, не носящие характера активного противодействия посягавшему. Такая точка зрения, подчеркнул пленум Верховного суда СССР, чужда принципам коммунистической морали и социалистическому правосознанию».
В этот комментарий, с которым в принципе я, разумеется, полностью согласен, мне хотелось бы внести лишь одно небольшое уточнение. «Отдельных судов», которые в своей практике, по словам профессора, отразили «глубоко порочную точку зрения», было достаточно много, в связи с чем пленуму Верховного суда СССР как раз и пришлось дать надлежащее разъяснение (это случилось, кстати, после появления статьи Николая Погодина и, думаю, в какой-то мере не без ее влияния). «Глубоко порочная точка зрения» сказалась и на приговоре по делу Мухина, вынесенном через много лет после авторитетного разъяснения, а правильность этого неправильного приговора отстаивали все звенья прокуратуры и суда, пока не вмешались Генеральный прокурор СССР и первый его заместитель. Да и почта, пришедшая после публикации очерка, убедительно показала, что он попал в цель, задев очень многие судьбы, ибо похожими — подчас как две капли воды — ситуациями мне пришлось заниматься еще многие месяцы, вызволяя тех, кто незаслуженно пострадал, вместо того чтобы быть награжденными за мужество, непримиримость к злу и гражданскую активность.
Слово «награда» я употребляю здесь в достаточной мере условно. Строго говоря, никакого особого подвига нет в том, что человек не струсил, не бросился наутек от подвыпивших хулиганов, а дал сдачу, как подобает мужчине и гражданину. Однако так поступает не каждый — иногда вовсе не потому, что заражен каким-то моральным изъяном. Не всем дано быть бойцами, и с этим надо считаться.
Но уж боец-то во всяком случае заслуживает понимания и защиты — даже больше того: компенсации за понесенный материальный и моральный ущерб. Об этом мне написал доктор юридических наук, заслуженный юрист РСФСР К. Н. Иванов, категорически утверждавший: «До тех пор, пока Мухину не принесены публичные извинения, не возмещены потери, которые он понес из-за неправосудного приговора, утверждать, как вы: «Под делом наконец-то подведена черта», нельзя. Преждевременно!»
Полностью разделяя гражданский пафос и нравственный максимализм уважаемого ученого, я думаю, однако, что публикация очерка в центральной газете явилась достаточным моральным удовлетворением для Вячеслава Ивановича Мухина (вряд ли какое-либо иное «извинение» могло быть более публичным), что же касается компенсации материальной, то ее, увы, не предусмотрел закон. Здесь есть над чем подумать: законодательство о необходимой обороне нуждается, видимо, в дальнейшем совершенствовании.
Сказать: «Очерк попал в цель» — меня побудило и еще одно обстоятельство. Уже после полной реабилитации Мухина, после того, как четкое отношение к делу было высказано не кем-нибудь, а Генеральным прокурором СССР; после публикации очерка в газете, когда эта история стала достоянием гласности, — уже после всего причастные — прямо или косвенно — к беззаконию лица не сдались и не ужаснулись.
От некоторых судебных деятелей пришли в редакцию письма, где сообщалось, что раньше — не то восемь лет назад, не то десять — шофер Мухин совершил наезд на пешехода (не умышленный, разумеется, и, по счастью, без тяжелых последствий). Никаких оваций этот факт, конечно, вызвать не мог. Но какая же все-таки связь между тем давним наездом и отражением хулиганского удара, защитой жизни, здоровья и чести близких ему людей? Цель «информации» была очевидной: человека с подмоченной биографией негоже брать под защиту, след его прежней беды, стало быть, должен тянуться за ним всю жизнь.
Слух, однако, был пущен — и пошел гулять, обрастая «подробностями». На нескольких вечерах я получил записки: верно ли, дескать, что тот, кого «вы сделали героем», на самом деле рецидивист с каким-то кошмарным прошлым? Ну что на это ответишь? Скажешь: «Нет», слух не исчезнет, наоборот, добавится новый: неспроста отрицает, видно, что-то там есть…
На вопросы я отвечал вопросом: как вы думаете, зачем Генеральному прокурору вступаться за рецидивиста?
Впечатляло!..
Но посрамленные не сдавались. Поразительно, как упорствует ложь! Как яростно стремится настоять на своем — не только вопреки совести, но и логике вопреки, и здравому смыслу… Вообще, неумение признавать ошибки мне кажется симптомом очень тревожным. В конце концов, от ошибок никто не застрахован. В столь сложном и тонком деле, как правосудие, — тем более. Но вот способность не считаться с очевидными фактами, когда ошибка уже вскрыта, когда она — пусть не сразу, пусть с опозданием — перечеркнута и исправлена, фанатичная эта потребность кажется мне во сто крат опасней. Ведь она, в сущности, означает, что тот, кто ошибся, сам-то себя уж заведомо не поправит. Даже ошибку свою разглядев… Будет упорствовать, закрыв глаза и зажав уши. А пострадавший пусть страдает и дальше: его горе нам нипочем…
Уже много месяцев спустя, когда бури вокруг очерка улеглись и все, казалось, встало окончательно на свои места, ко мне пришли несколько московских студентов. Человек пять или шесть… Рассказали, что один их преподаватель посвятил половину лекции «разносу» очерка: так, мол, будут всех линчевать. Сечете, куда зовет нас писатель?!
С естественным интересом и даже сочувствием слушали студенты «смелую» критику. Но что-то, однако, задело… Неувязки ли, фальшь ли? Или просто «неадекватная» страсть, с которой преподаватель громил, сокрушал и опровергал?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: