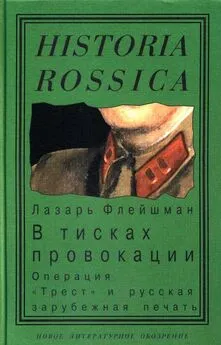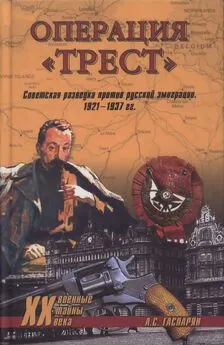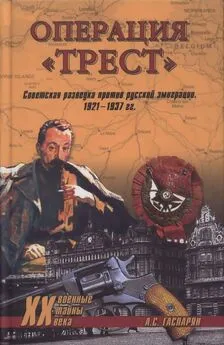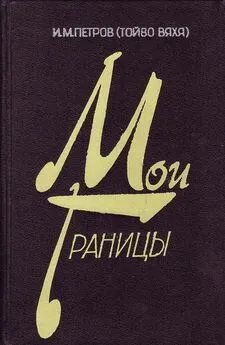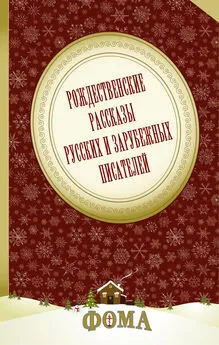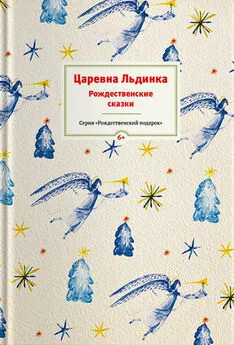Лазарь Флейшман - В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать
- Название:В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2003
- ISBN:5-86793-247-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лазарь Флейшман - В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать краткое содержание
В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так же, как и ты, я предвижу неизбежность нового провала А. П. Я не сомневаюсь, что ГПУ его не выпустит из своих лап. Надо быть совершенно наивным, чтобы допускать мысль, что ему удастся «оторваться». Мне непонятна позиция Лукомского. Вот уже более года как я прервал с ним всякую переписку. За последние 2–3 недели он вдруг стал писать мне чуть ли не два раза в неделю по всякому вздору. Несколько дней тому назад он разразился жалобами на то, что ходят слухи о каком-то «провале», что поводом к этому явилась поездка Шульгина, попавшего в руки чекистов, и т. п. Не желая поддерживать с ним на этот счет переписку, я ответил кратко, что «провал» для меня не неожиданность, что я в свое время предостерегал и В. К. и самого А. П. и что «конечно, это грустно». И только. Вчера получил вновь длинное письмо, в коем он между прочим пишет: <���…> [360]
На это Шатилов отвечал:
Как и ты, я не могу себе ясно объяснить причину, вызвавшую желание Лукомского вступить с тобой вновь в переписку.
Мне кажется, он хочет осторожно остановить твое внимание на нежелательность осуждения работы Кутепова.
Ведь он (Лук.) является отчасти ответственным за то, что работа эта оставлена в руках А. П. Я тебе уже писал, что после провала было созвано совещание, при участии Лук., решившее работу в России продолжать под руководством Кутепова. С другой стороны, мне кажется, окружение хочет отчасти свалить вину на тебя указанием, что все дело произошло из-за поездки Шульгина, ехавшего по твоему поручению… Эти мысли я уже чувствовал и в более широких кругах, немного знающих о провале. Впрочем, м.б., я и ошибаюсь. Во всяком случае, о провале уже все забыли, а больше говорят теперь об удачах А. П. в Петербурге. Предлагают даже показать в натур<���альную> величину офицера, бросившего бомбу в комм<���унистический> клуб [361].
Щекотливость ситуации, в которой очутились Шульгин (как автор, с одной стороны, «Трех столиц», а с другой — двух ненапечатанных статей о своем путешествии) и Возрождение, отражает статья К. И. Зайцева, заместителя П. Б. Струве по редакции, представляющая собой рецензию на две новинки — только что вышедший французский перевод шульгинской книги [362]и выпущенную тем же берлинским издательством «Медный Всадник», где вышли Три столицы в оригинале, книгу Николая Громова Перед рассветом. Путевые очерки современной сов. России. Статья Зайцева ставит своей целью остановить множащиеся темные слухи о причастности ГПУ к поездке Шульгина и предотвратить разгул злорадно-враждебных истолкований его сочинения. Поэтому изображается оно как произведение не документальное, а по преимуществу беллетристическое:
Очерки Громова и очерки Шульгина прекрасно друг друга дополняют, как это правильно отмечено С. А. Кречетовым в предисловии к книге Громова. Трудно было выискать два описания того же объекта, более различные, по стилю, по содержанию, а главное, по всей, так сказать, установке сознания авторов!
Книга Шульгина — прежде всего художественное произведение, яркое, живое, образное. Как все, что пишет этот высокоталантливый писатель, и последняя его книга проникнута тем своеобразным и покоряющим шармом, который делает чтение даже серьезных размышлений и длинных описаний легким и увлекательным удовольствием. Книга Шульгина читается как роман. Эта банальная фраза в данном случае совершенно точна и не заключает в себе льстивого преувеличения.
Особая прелесть шульгинского описания заключается, конечно, в том, что оно исходит от лица, извне, контрабандным путем, проникшего в советскую Россию и смотревшего на нее, так сказать, нашими глазами.
За полгода до того, в январе, П. Б. Струве акцентировал двойной характер книги: это не только литературное, но и политическое явление, причем второй аспект представал как едва ли не основной. Сейчас К. И. Зайцев оказался перед необходимостью затушевывать политическое звучание шульгинских высказываний в Трех столицах. Шульгин, по его характеристике, визионер:
Мечтательством явилась и та «теория» советской действительности, которой пропитана вся его блестящая книга. Шульгин ехал в Россию глубоким пессимистом. В своих тогдашних мечтаниях он построил теорию умирания России в обезьяньих лапах коммунизма — умирания безнадежного и беспросветного, поскольку гнет коммунизма не будет свергнут извне в порядке вооруженной интервенции. Проникнув в Россию, Шульгин был поражен и, можно сказать, потрясен тем опровержением, которое дало его поверхностное, сквозь перископ, обозрение советской действительности, и он, в своих мечтаниях, сейчас же создал новую «теорию» — мечту, которую и сумел с обычной выразительностью и убедительностью развить в своей книге. Россия жива, под футляром советского гнета она зреет и наливается соками для того, чтобы, в какой-то провиденциальный момент, совлечь с себя гнусную личинку и личину большевизма. Этот процесс идет, и ему только не нужно мешать. Нужно ждать того вожделенного момента, когда на путях эволюции произойдет революция.
Противопоставляя «мечтательство» Шульгина и трезвый отчет в книге Громова, рецензент дает понять, что истина — на стороне второго. Громов — беглец из советской России; он на себе испытал, что значит советская власть. Эта жизнь — не совсем то, во что она преобразилась под пером Шульгина. Ни о каком процессе созревания под советским игом, процессе, способном своими собственными силами свалить советскую власть, — у Громова не может быть и речи. Конфликт у него состоит в ожесточенной борьбе сил жизни, воплощаемых Россией, — и сил смерти, воплощаемых советской властью [363].
Для сравнения приведем пространный отзыв В. А. Маклакова, посланный им в ответ на давнюю просьбу Б. А. Бахметева о разъяснении некоторых пассажей в Трех столицах. Разговор о шульгинской книге переходит здесь в разговор о «Тресте» и судьбе Опперпута (которого автор письма ошибочно именует Оверпутом):
Начну с Шульгина; тут я действительно виноват перед Вами и в свое время не ответил на Ваши вопросы, а затем о них позабыл. Более всего потому, что «дело Шульгина» никогда не было стационарно, все время изменялось в своем освещении.
Помню, что я тогда же показал Шульгину Ваш отзыв о нем и Ваш запрос; отзыв был, конечно, ему приятен, но на самый запрос он уже ответил с некоторым пожиманием плеч, что, конечно, дескать, Вы правы и он видит в той организации, которая его возила, зародыш будущего фашизма, полезного для России, но…
Дело в том, что Шульгин, как очень эмоциональный человек и при этом очень искренний, сам переживал эволюцию своих собственных наблюдений; переехал он границу в совершенно восторженном настроении; затем это настроение стало понемногу падать; я его увидал много раньше появления книги, и тогда уже он признавался мне, что вводит поправки в свои выводы. Все это довольно понятно; ехал он в Россию, полный воспоминаний 20-го года, когда было видно только одно продолжающееся разложение, и материальное и моральное, когда можно было думать, что Россия погибает; к своему изумлению, он столкнулся с обратным и новым процессом, морального и материального восстановления. Все это приятно поражало; и то, что закипало оживление в экономической жизни, и то, что никто не поддерживал большевистских идеалов и мечтаний, и то, что в разговорах на улицах их перестали бояться, и last but not least то, что в России уже могла существовать и действовать «контрабандистская» организация. Шульгин воочию наблюдал развитие «быта», по Вашему выражению, и думал, что он находится накануне того дня, когда этот быт сковырнет власть. Это чувство было в нем настолько живо, как он мне признавался, что когда он переехал границу, то почти каждый день ждал в газетах известия о перевороте. Известие не приходило; он поневоле признавался себе, что процесс все-таки более затяжной, чем ему казалось» и начинал резонерствовать, объясняя по-своему и сущность процесса, и его будущность, и причины, его замедляющие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: