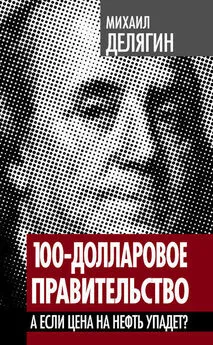Михаил Делягин - Империя в прыжке. Китай изнутри...
- Название:Империя в прыжке. Китай изнутри...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Делягин - Империя в прыжке. Китай изнутри... краткое содержание
Империя в прыжке. Китай изнутри... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пример 2
Русский способ производства
Стоит отметить, что подобные глубокие культурные особенности свойственны далеко не только народам Юго-Восточной Азии. Например, особенностью русской культуры является, наряду с органической неспособностью к монотонному рутинному труду (с блеском проявленная на советских конвейерных производствах), склонность к творческому подходу даже в рамках совершенно не приспособленных для этого технологий.
В начале ХХ века немецкие социологи выявили и описали эту особенность, которая поразила их до такой степени, что они назвали ее «русским способом производства».
В советское время она использовалась в массовом движении изобретателей и рационализаторов, которые, несмотря на ряд серьезных и дорогостоящих ошибок (самой известной из них стала замена в середине 80-х годов ради копеечной экономии медной детали пластмассовой с металлическим напылением в цветных телевизорах, из-за чего те горели и взрывались по всей стране), весьма существенно улучшили многие производственные процессы.
Однако главным, наиболее значимым ее проявлением стал феномен рабочих высшей квалификации — «шестого разряда», сосредоточенных в основном на предприятиях военно-промышленного и авиакосмического комплексов. Особенностью этих рабочих была способность за счет творческого подхода существенно и, что не менее важно, постоянно превышать точность изготовления деталей, предусмотренную используемым оборудованием.
Зарплаты их были вполне сопоставимы с зарплатами не только профессоров, но и министров. Как правило, их знали по имени-отчеству не только директора даже крупных заводов, но и более высокие начальники.
В силу неформализуемости своих навыков они часто передавали их прежде всего своим детям, что было одним из факторов складывания «трудовых династий» на производстве.
Это можно описывать поэтически, — мол, «мастер чувствовал душу станка», — но нам важен результат: на оборудовании, позволяющем изготовлять деталь с точностью, например, миллиметр, рабочий высшей квалификации обеспечивал точность в треть миллиметра, а порой и меньше.
В данном феномене заключается одна из причин того, что многие советские технологии, захватывавшиеся стратегическими конкурентами Советского Союза вместе с подробным описанием, а порой и с их разработчиками, так никогда и не удавалось воспроизвести.
В частности, одни из лучших в мире немецкие оружейники, несмотря на строжайший приказ Гитлера, до конца войны не смогли воспроизвести и запустить в производство не имевший равных по скорострельности авиационный пулемет ШКАС (1933 года изобретения!), захваченный в самом начале войны (правда, одной из причин этой неудачи стала особенность устройства стандартного немецкого патрона).
Точно так же американцы после разрушения Советского Союза так и не смогли воспроизвести технологию изменения стреловидности крыла стратегического бомбардировщика Ту-160 [64], который остается самым крупным в истории сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире.
Склонность носителей русской культуры к творчеству при выполнении рутинных работ является потенциальным фактором повышения конкурентоспособности России, так как перспективы развития современных технологий связаны со снижением значения рутинного труда (и, в частности, конвейерных производств) и повышением роли творческого труда.
Вместе с тем реализация этой возможности «сама собой», конечно же, невозможна и требует значительных и осознанных усилий российского государства, на которые оно в своем нынешнем состоянии, насколько можно судить, не способно в принципе.
4.3.1. Опиумный фундамент: враждебность к буржуазии
Описанная выше специфика китайского общества проявляется во всех сферах его жизни, в том числе и в политике. Механическое применение в нем теорий и институтов, порожденных совершенно иной, западной цивилизацией, невозможно в принципе: для того, чтобы быть реализованными, они должны пройти глубокую корректировку и адаптацию к совершенно иной культурной среде, по сути дела — коренную переработку и «переваривание» ею.
Классическим примером недооценки ее значимости и возможностей представляется сегодня послевоенная оценка американцами японской культуры. Вполне справедливо восприняв ее как совершенно нерыночную по своей природе и в принципе не совместимую с идеологией и практикой свободного рынка, они сочли это фактором, надежно и надолго обеспечивающим низкую конкурентоспособность Японии, — и потому развивали ее (как «непотопляемый авианосец» против Советского Союза и Китая) безо всяких опасений будущей конкуренции с ее стороны.
Реальность же, как мы знаем, оказалась строго противоположной: именно нерыночная по своей сути культура стала основой колоссальной японской конкурентоспособности, организационного, образовательного и технологического рывка, превратившего Японию в третью, а на некоторое время (между деградацией нашей страны в первой половине 80-х годов и возвышением Китая) — и вторую экономику мира.
Японцы смогли переработать основные рыночные принципы, адаптировав их к своей культуре (в том числе и при помощи широкого заимствования и переработки советских социальных технологий, в том числе технологий организации производства), — и за счет этого пробудили творческий и коммерческий потенциал народа, совершив колоссальный скачок в развитии.
Понимай американцы эту возможность в конце 40-х годов, развитие Японии было бы надежно заблокировано ими на уровне Турции 50-х: стратегические конкуренты не нужны никому.
Развитие капитализма в Китае остается крайне мало изученным процессом, — по крайней мере, на Западе, к которому на китайском фоне, безусловно, относится и Россия. Между тем это развитие, стремительно набиравшее ход с момента «вскрытия» его экономики в ходе опиумных войн, было не только крайне болезненным для тогдашнего китайского общества, но и крайне специфичным.
Его ключевыми элементами, значение которых за пределами Китая, насколько можно судить, осознается крайне недостаточно, была не просто «китайская компрадорская буржуазия», но ее ударные, ключевые элементы: финансисты Гонконга и криминальные структуры (в том числе знаменитые «триады»), которые, как бы они ни романтизировали себя, подобно западным мафиози, играли весьма значительную роль в наркоторговле, торговле людьми и связанными с ними видами бизнеса, включая транспорт, страхование и охранные услуги.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: