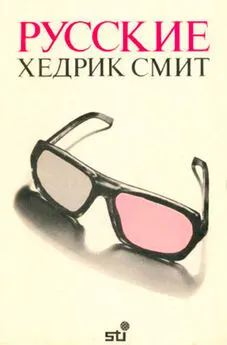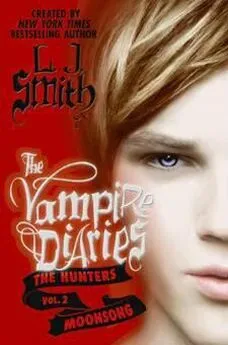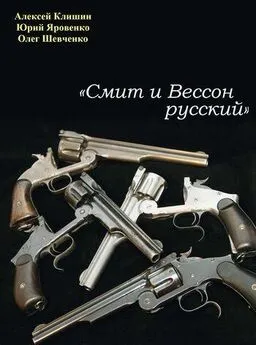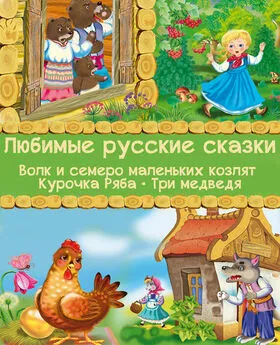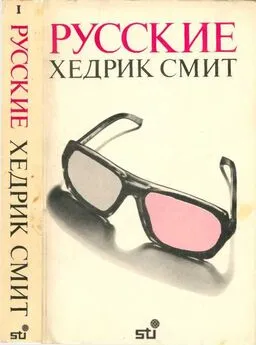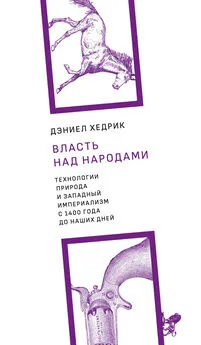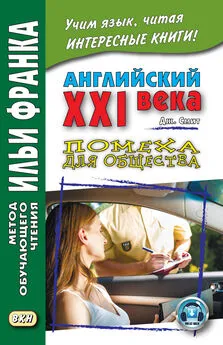Хедрик Смит - Русские
- Название:Русские
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Scientific Translations International LTD
- Год:1978
- Город:Иерусалим
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хедрик Смит - Русские краткое содержание
Хедрик Смит, получивший премию Пулицера в 1974 г. за репортажи из Москвы, является соавтором книги «The Pentagon Papers» и ветераном газеты «Нью-Йорк таймс», работавшим в качестве ее корреспондента в Сайгоне, Париже, Каире и Вашингтоне. За время его трехлетнего пребывания в Москве он исколесил Советский Союз, «насколько это позволяло время и советские власти.»
Он пересек в поезде Сибирь, интервьюировал диссидентов — Солженицына, Сахарова и Медведева; непосредственно испытал на себе все разновидности правительственного бюрократизма и лично познакомился с истинным положением дел многих русских. Блестящая, насыщенная фактами книга Хедрика Смита представляет собой великолепную мозаику фактов, нравов и анекдотов, представляющих ту Россию, которую Запад никогда ранее не понимал.
«Самый всеобъемлющий и правдивый рассказ о России их всех, опубликованных до настоящего времени. Это - важная и великолепная книга. Она захватывает своей свежестью и глубиной проникновения» - Милован Джилас («Санди таймс»)
Перед Вами не сенсационные разоблачения, а сама жизнь. Это и для тех, кто думает, что знает о Советской России все.
Содержание:
Часть 1. Народ.
Привилегированный класс. Дачи и «ЗИЛы»;
Потребители. Искусство очередей;
Коррупция. Жизнь налево;
Частная жизнь. Русские как народ;
Женщины. Освобождение, но не эмансипация;
Дети. Между домом и школой;
Молодежь. «Рок» без «ролла».
Часть 2. Система.
Деревенская жизнь. Почему не хотят оставаться в деревне;
Люди и производство. «Скоро будет»;
Вожди и массы. Тоска по сильному хозяину;
Партия. Коммунистические обряды и коммунистические анекдоты;
Патриотизм. Вторая мировая война была только вчера;
Сибирь. Небоскребы на вечной мерзлоте;
Информация. «Белый ТАСС» и письма в редакцию.
Часть 3. Проблемы.
Культура. Кошки и мышки;
Интеллектуальная жизнь. Архипелаг неофициальной культуры;
Религия. Солженицын и национальная суть России;
Диссидентство. Современная технология репрессий;
Внешний мир. Привилегированные и парии;
Конвергенция. Становятся ли они более похожими на нас?
Русские - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Блестящее мастерство таких театральных режиссеров, как Юрий Любимов в Театре на Таганке, Анатолий Эфрос в Театре на Малой Бронной и Георгий Товстоногов в Ленинградском драматическом театре им. Горького, и их постановки классических произведений в современной интерпретации отвлекают внимание публики, заставляя ее забыть о малочисленности талантов в современной драматургии. Обращаясь к литературе, читатели уходят в мир писателей XIX века, как заметил один начитанный инженер, «потому, что их произведения несравненно лучше, честнее и откровеннее всего, что пишется сегодня. Все эти Евтушенки — Вознесенские — Шукшины меня не интересуют». Одна студентка МГУ, поклонница классики, рассказала мне о настоящей панике, охватившей студентов ее группы на одном из занятий по курсу русской прозы, когда им было объявлено о предстоящей проверке их знакомства с литературными стилями. Во время этой проверки студенты должны были опознать предложенные выдержки из произведений современных писателей, которые, как предполагалось, молодежь прочла сверх программы. «Я не читала ни одного произведения современных советских авторов в течение трех лет, — жалобно сказала студентка, — и не только я, никто из моих друзей тоже не читал». Возможно, это было некоторым преувеличением, однако отсутствие у нее и у других молодых людей интереса к произведениям советских писателей было неподдельным. Некоторые молодые люди находили осторожные произведения официальных советских либералов начала 70-х годов настолько банальными и разочаровывающими, что жадно гонялись за любыми произведениями западных авторов, почти независимо от их качества, поскольку в них они находили и экзотику, и свободу от каких бы то ни было шор.
Я слышал жалобы некоторых наиболее радикальных интеллектуалов на то, что либералы оказывают читателю плохую услугу, играя в полуправду, нанося свои критические удары с большой оглядкой и претендуя при этом на смелость. Как это ни парадоксально, но именно Вознесенский почувствовал изменение в настроении молодежи и, одновременно выражая крушение собственных надежд, опубликовал в 1972 г. стихотворение «Скука», представляющее собой выраженные в лаконичной поэтической форме размышления поэта:
…………………………………
…………………………………
Скука — это пост души,
Это одинокий ужин,
Скучны вражьи кутежи,
И товарищ вдвое скучен.
Врет искусство, мысль скудна.
Скучно рифмочек настырных.
И любимая скучна,
Словно блядь по-монастырски.
…………………………………
…………………………………
Пост великий на душе.
Скучно зрителей кишевших.
XVI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Архипелаг неофициальной культуры
Культура в России разбросана по крошечным островкам.
Лев Наврозов, 1972.В России наиболее живая и интересная культурная жизнь находится вне закона и, следовательно, является делом частных лиц. Это — искусство, наименее подверженное влиянию официальных канонов, наиболее интересное и бескомпромиссное, а потому и наиболее опасное для мира официальной культуры. Власти знают о существовании этого искусства и, боясь его, разбросали его, как выразился находящийся в изгнании писатель Лев Наврозов, по крошечным островкам. Эти островки образуют скрытый архипелаг, жизнь которого значительно менее известна, чем жизнь архипелага ГУЛАГ, с такой силой описанного Солженицыным. И тем не менее его существование так же характерно для советского общества. В недрах этого архипелага бережно сохраняется наследие великого искусства и литературы: богатство Серебряного Века (предреволюционного периода русской культуры), блестящее абстрактное искусство, расцветшее в ранний советский период, несравненные произведения поэтов, пригвожденных к позорному столбу или уничтоженных в 30-е годы. Это искусство не только было сознательно исключено из официальной культуры, но и преднамеренно предано забвению. Оно выжило только благодаря немногим бесстрашным людям, добровольно взявшим на себя миссию быть хранителями этой культуры, которая иначе была бы потеряна для современного советского общества. В большинстве случаев это люди старшего поколения, сохраняющие живую, человеческую связь с прошлым и удовлетворяющие любопытство более молодого поколения, желающего знать все о своем культурном наследии. Ибо в стране, где история постоянно пишется и переписывается в угоду очередным нуждам правителей и где деятели культуры сложного противоречивого таланта изображаются как застывшие опошленные карикатуры, чтобы втиснуть их в прокрустово ложе официальной государственной культуры, традиция устной истории — не просто дополнительная помощь будущим ученым, а жизненно важный и достоверный источник познания истории развития культуры и ее преемственности.
Старая русская пословица, гласящая, что воспитание ребенка начинается с воспитания его деда, приобретает особый смысл в условиях, когда деды являются хранителями богатейшего культурного наследия, которое без них было бы утеряно.
Вдовы и сыновья таких великих поэтов, как Осип Мандельштам и Борис Пастернак, не только стремятся сохранить в людях память об этих выдающихся художниках, но и помогают во крови и плоти ощутить эпоху, в которую они жили и работали. Иногда в России вдруг совершенно неожиданно появляются добровольные хранители прошлого. Так, например, Науму Клейману, горячему молодому поклоннику великого Сергея Эйзенштейна, обязан своим существованием музей-квартира этого гения кино. Клейман был и инициатором бережного восстановления одного из фильмов Эйзенштейна по уцелевшим разрозненным фрагментам. Оригинал фильма («Бежин луг») настолько разозлил сталинских цензоров своей «идеологической ересью», что оба раза (Эйзенштейн сделал фильм дважды) все катушки с пленкой были сожжены. Как показали произведения Солженицына, такие же добровольные историки сохранили личные документы о сталинских репрессиях, память о которых партия так усердно старалась стереть, а современные подпольные барды помогают сохранить атмосферу тех лет и память о них.
Русские — поистине непревзойденная нация по части соблюдения традиции отмечать годовщины, а на частном архипелаге культуры знаменательные даты нередко служат поводом для встреч, являющихся своего рода эквивалентом литературных салонов XIX века. Я хорошо помню холодный весенний день 30 мая, когда толпы москвичей, молодых и старых, совершали ежегодное паломничество в деревню Переделкино — поселок московских писателей — на могилу Бориса Пастернака. Одним из любопытных аспектов советской системы является ситуация, когда на такого человека, как Пастернак, можно ссылаться, его можно цитировать и почитать как поэта, поскольку режиму удобно было включить столь знаменитого лирика в сферу официального искусства, одновременно лишая публичного признания такую «неудобную» особенность Пастернака-художника, как его свободный дух, позволивший Пастернаку написать «Доктор Живаго». Туристам, желающим посетить могилу поэта, всегда отказывают в этом под разными предлогами. Однако в тот день обстановка в Переделкино была настолько спокойной, что отвратительная кампания, развернутая против Пастернака в связи с его романом, и вынужденный отказ писателя принять Нобелевскую премию казались лишь далекими воспоминаниями. Прохладный ветерок овевал три высокие сосны и несколько берез, склонившихся над его могилой. Мальчишки играли на груде железобетонных панелей, оставленных рядом на открытой площадке; босоногие сельские женщины неторопливо вскапывали лопатами жирную темно-коричневую землю недалеко от кладбища; огромная черная ворона клевала что-то на только что вспаханном поле. Люди молча положили свои скромные букеты — тюльпаны, лютики, ландыши и даже одуванчики — на белый надгробный памятник, выполненный по проекту друга Пастернака скульптора Сары Лебедевой. На памятнике, прекрасном в своей строгой простоте, чистыми тонкими штрихами высечено характерное угловатое лицо и скромная надпись: «Борис Пастернак, 1890–1960». Семья Пастернака приготовила множество всяких сосудов с водой для целого потока цветов. «Этого недостаточно», — мягко упрекнул Алену Пастернак, невестку поэта, друг их семьи. «Не беспокойся, — ответила она, все равно на могиле цветы постоянно лежат грудой».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: