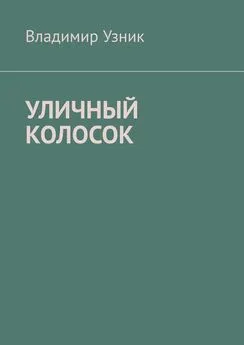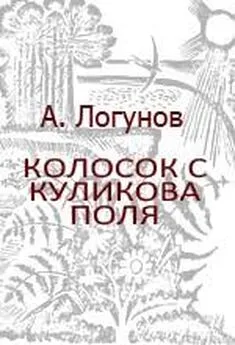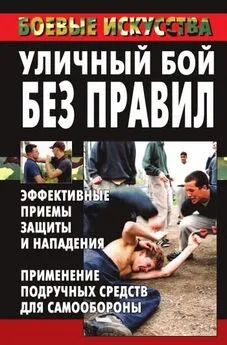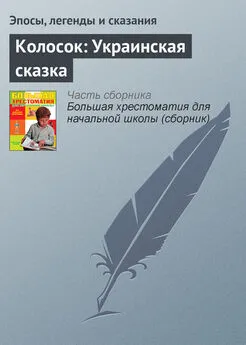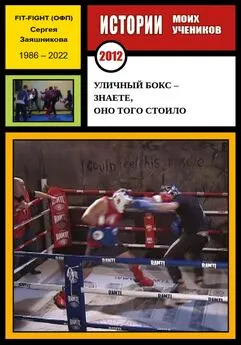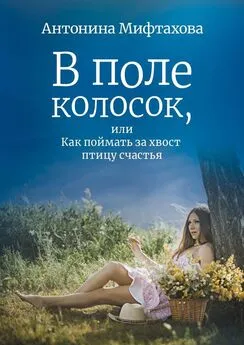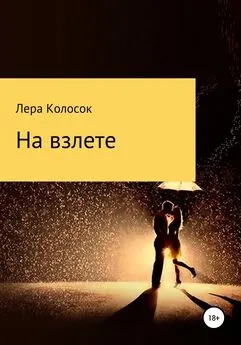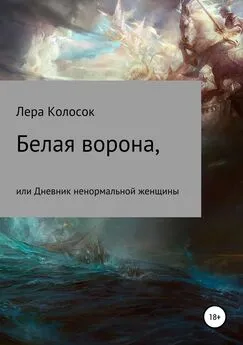Владимир Узник - УЛИЧНЫЙ КОЛОСОК
- Название:УЛИЧНЫЙ КОЛОСОК
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005149435
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Узник - УЛИЧНЫЙ КОЛОСОК краткое содержание
УЛИЧНЫЙ КОЛОСОК - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Истинным основателем песенного Воронежского края является князь Голицын, а не самозванцы Пятницкий или Массалитинов.
До правды докопался писатель Юрий Нагибин и отразивший её легко и весело в своей повести «Князь Юрка Голицын», куда я и отсылаю любопытных.
Однако, чувствуется, что сам автор в Салтыках никогда не был.
На стыке 19-го и 20-го веков Царь и Правительство в области законодательства пытались привести Государственные законы в соответствие с Законом Божьим. В области просветительства само собой складывалось направление могущественного народного самосознания. Духовный подъём породил писательско-издательский рост, не счесть, появилось большое количество художников-живописцев, театров, композиторов, артистов, величайших певцов.
Свободный капитал купцов-старообрядцев всё больше оседал в культурном меценатстве.
Духовно-душевные восторги композиторов порождали совершеннейшие шедевры церковного пения, исполнение которого требовало от поющего клира, помимо голосов, высочайшего мастерства.
Чайковский, Рахманинов, Ипполитов-Ив‚нов, Слонов и другие, помимо светской музыки, вкладывали свой талант в упорядочение пения на храмовых хорах, приближая его к ангельскому пению и вдохновляя к тому многочисленных исполнителей из народа.
В некоторых храмах бывали такие дьяконы, от баса которых покачивались паникадила и дрожали свечи на них.
Величайшие певцы того времени обнаруживали свои таланты, прославляя Бога на клиросах.
Басы Шаляпин, Михайлов, теноры Собинов, позже Козловский, Лемешев и многие другие оперные исполнители также начинали на соборных хорах.
Подобная артистическая судьба сложилась и у моего деда Кузнецова Ивана Константиновича, хотя знаменитым он не стал.
После рождения первых детей обнаружилось, что они тоже хотят есть и быть в тепле. Встал вопрос: «Чем кормить семью?».
По причине слабого здоровья и нехозяйского склада характера Ивана Константиновича, после короткого семейного совета было принято решение содержать семью от тех способностей, которые есть. Зная ноты и обладая поставленным тенором, можно было поискать доходов в театральной Москве.
Вскоре дед укатил с поездом Царицын-Москва, пообещав после обретения места и заработка, вызвать жену с детьми к себе. Сначала с устройством дело шло туго, но затем, видимо, не без помощи хороших людей и собственной настойчивости, дед определился в один из театров, и у него начали водиться деньги.
Время от времени он помогал семье, высылая денежные переводы и посылки. Изредка не забывал навещать семью на Славе и отца в Ново-Черкутине. После одной из таких побывок родилась ещё одна дочь Александра, которая, неделю прожив, умерла во младенчестве.
Понемногу положение деда-артиста окрепло, он начал уговаривать бабушку оставить всё обжитое и нажитое и уехать с детьми к нему в Москву.
Вероятно, она в простодушной своей мудрости считала занятие деда чем-то несерьёзным и даже временным, а своё положение при нём – ненадёжным. А потому, полагаясь на пословицу про синицу в руке и журавля в небе, отказалась за ним ехать, не предполагая, какие лишения, нищету, страдания утраты и тяжелейший труд почти в одиночку, уготованы ей до конца жизни.
Но с другой стороны, кто вошёл от неё в земной мир и живущие доныне, должны быть благодарны за своё рождение именно этому бабушкиному решению: не покидать родного гнезда. Иначе у неё была бы другая жизнь, и вместо нас жили бы другие люди.
По воле бабушки всё осталось на своих местах, за исключением того, что по истечении известного срока, 18.02.1921 у них родилась ещё девочка. Её покрестили Валентиной и ей суждено было стать моей мамой и моих сестёр: здравствующих Татьяны и Веры, и умерших: Людмилы и Екатерины.
«Соломенной вдовой» бабушка выхаживала троих детей, содержала дом, хозяйство, землю, скотину, волокла «коллективное» тягло и непомерные большевистские налоги.
По себе знаю, как непросто живётся в детстве от безотцовщины в условиях жесточайшего сельского быта и как сложно, но нужно, не уронить себя в лихом общении c уличными пацанами, хоть ты и ростом меньше, и брюхо у тебя пустое, и помочь тебе некому.
Представляю, как тяжело было дяде Мите с раннего детства впрягаться в изнурительный и непосильный для ребёнка сельский труд.
Основным бабушкиным мотивом, вдохновлявшим к повседневным энергичным усилиям, был мотив: «Не быть сзади и не быть хуже других».
Не сумевшая в учёбе дойти до 7 класса тётя Катя также рано освоила лопату, вилы и грабли.
Жили, «как все», к тому же дед продолжал помогать средствами, хотя по театральной конкуренции вынужден был оставить Москву и перебраться в Нижний Новгород (будущий Горький, где и мне позже довелось водить поезда).
Кузнецовское хозяйство пошатнулось, когда они остались без лошади.
Дедушкин брат дядя Андрей как-то попросил у бабушки лошадь для вспашки. Сделав дело, решил дать ей отдохнуть, привязал кобылу к столбу и оставил без надзора. В результате у этого казака, прожившего с конём всю жизнь, бабушкина лошадь «нечаянно» задушилась.
Для быстрого утешения он тут же пообещал отдать своего жеребёнка.
Однако, с исполнением обещания он долго тянул и тянул бы дольше, если бы вскорости не умер, о чём сказано выше. И остались сироты без лошади и без жеребёнка.
В начале 30-х годов призывной возраст всеобщей воинской повинности обозначен в 21 год.
Дядя Митя, рождением 1913 года, собирался в Армию. В один из «визитов» деда Ивана Константиновича семья приняла решение: вместо временного ветхого сооружения поставить нормальный кирпичный дом. Дед будет помогать деньгами с гонораров, а дядя Митя – строить. Он спешил построить дом до ухода на службу, видимо, предчувствуя, что если он не сделает этого к тому времени, то уже потом семейно-жилищный вопрос не решит никто и никогда. И хотя на качестве постройки ощущалась нехватка средств и времени, особенно в морозные и сырые периоды, хочется и нужно постоянно возглашать к Богу: «Упокой, Господи, душу безвременно положившего живот свой за Отечество воина Дмитрия. И прости ему прегрешения вольные и невольные. И даруй ему Царствие Небесное. Вечная ему память! Вечный покой!».
Этот дом с усадьбой согрел и вскормил род Болотиных и Кузнецовых в тяжелейшие большевистские довоенные, военные и послевоенные годы. От этого д‹ма встали на ноги последующие поколения.
Самому дяде Мите пожить в нём не пришлось, не оставил он и потомства.
В последующем, в нём дожили свой век бабушка Матрёна Ивановна и тётка-фронтовичка Екатерина Ивановна.
Степная наша местность веками находилась в общении с казачьими хуторами и станицами Верхне-Донского округа Области Всевеликого Войска Донского. Издавна мужское население прилегающих сёл проходило «государеву службу» в донских казачьих полках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: