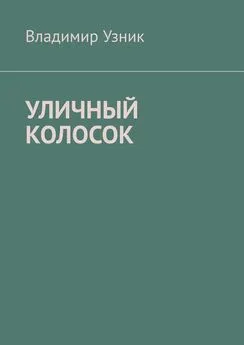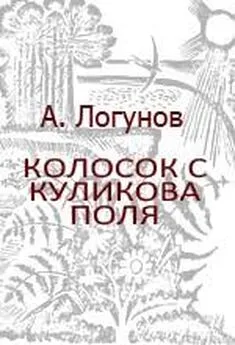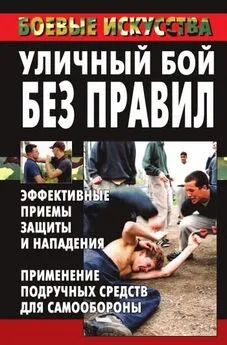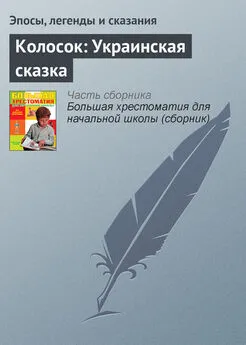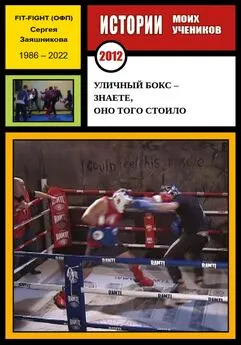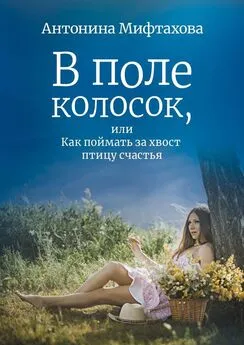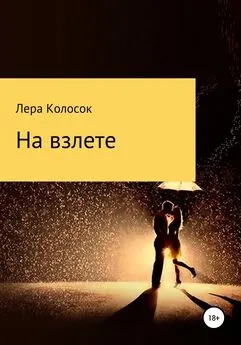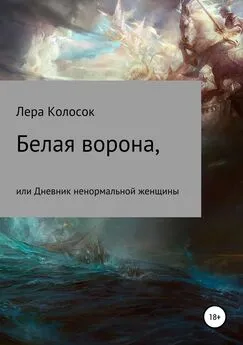Владимир Узник - УЛИЧНЫЙ КОЛОСОК
- Название:УЛИЧНЫЙ КОЛОСОК
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005149435
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Узник - УЛИЧНЫЙ КОЛОСОК краткое содержание
УЛИЧНЫЙ КОЛОСОК - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бросившие столицу и шустро сбежавшие из неё на восток горластые большевики и номенклатурные жиды также быстро стали возвращаться из «эвакуации» поближе к Арбату.
Отожравшись и обогревшись, «аппарат» и «органы» спешили обустроить себя комфортом, требовавшим народного и электрического напряжения.
Восстанавливалась Каширская электростанция и наращивались мощности Шатурской.
Если Каширская станция вырабатывала электричество на тульских серых углях, то Шатурская была спроектирована для работы на торфяном топливе от окружающих необъятных болот Мещёры.
Обширнейшие топи необходимо было предварительно осушать. Так как нужной техники ещё не существовало, тяжелейшие и губительные для здоровья работы предстояло вручную выполнять людям.
Тронутое сифилисом мышление вождей решило мобилизовать на торфоразработки цветущую женскую молодёжь. Правящие жиды сознательно убивали в ледяной мещёрской жиже десятки тысяч славянских красавиц: во-первых, надо было выполнять «задание партии и правительства; во-вторых, косвенно «подтягивался нарушенный войной баланс женского и мужского населения; в-третьих, дополнительно самокорректировалось воспроизводство русского народа, рост которого всегда беспокоит глобальный сионизм.
Почти все девчата 1920—25 годов были собраны со всего славинского села и под ружьём сосланы на торфоразработки в Орехово-Зуево Московской области. В их числе была и моя мама.
Организация быта была Гулаговской.
Девушки жили большими партиями в низких бараках. Постоянно бывало холодно и сыро из-под полов, не спасавших от болотного дыхания. Дырявый туалет в отдалении. Никаких условий обрести в казарме подобие собственного «гнёздышка», чтобы «почистить пёрышки». Работали от темна до темна, стоя по грудь в ледяной воде. Выдаваемая резиновая и прорезиненная «спецуха» ещё более усиливала пронизывающий до костей озноб. Одежда постоянно была сырой, так как высыхать не успевала. Холод заставлял усердно работать лопатой, грабаркой, кайлом, путейским молотком.
Вся сеть торфяных узкоколеек, которая жива до сих пор, уложена не революционными корчагиными, а реальными девчатами, страшный конец жизни некоторых из них довелось мне увидеть.
После тяжелейшего дневного труда они замертво падали в бараках не емши, не пимши, не раздемши, не мымши. Спешили согреться от болотной стылости.
Вскоре настырно начинала одолевать малярийная лихорадка, которая в местном населении присутствовала генетически. Изгонять её пытались вином.
Под вином на пьяной Мещёре подразумевалось два вида: белое – спирт и водка, а красное – всё остальное.
Понимая, что их женское предназначение похоронено безвозвратно, некогда одарённые, здоровые, недоступные красавицы, кровь с молоком, пускались во все тяжкие с пьянством, табаком, распутством, женскими болезнями. За короткое время наступало полное растление: и физическое, и нравственное.
Целые бараки превращались в притоны.
По стране быстро распространялось тяжёлое понятие: «торфушка», т.е. женщины, беспрепятственно и безнаказанно доступной, даже для подростков. Бывало, что похмельная красавица просыпалась облеплённой страстными малолетками, как блохами.
Начальный пример безнравственного обращения с девицами подавал административный «комиссариат», ну, а полное падение довершала их «система».
«Система» заключалась в следующем.
Вся карающая машина «развитого социализма» не уклонилась от царской «владимирки»: она находилась строго на востоке от Москвы.
Лагеря Гулага составляли восточный архипелаг общегосударственной советской каторги. В той «зоне» половина русского народа была окутана колючей проволокой. Туда позже, будучи участником и инвалидом Великой Отечественной войны, замели и моего папу – Болотина Георгия Петровича.
Оторвилы, отвоевавшие и отсидевшие по многим статьям УК, кроме 58-ой, сознавали, что «масть» в нищем Союзе может прожить только Москвой.
Однако, вчерашнему зэку столица отмерила 101 км приближения, с запретом проживания в ней.
Огромная орда «откинувшихся» и бежавших «воров» и «вертухаев» разбухала на границе Московской и Владимирской областей, т.е. в Орехово-Зуеве, который быстро превратился в советский Чикаго.
Эта подмосковная «малина» «промывала» от денег и багажа упакованных пассажиров пригородных электропоездов, следовавших до Москвы или обратно. Частенько случалось, когда севший в поезд столичный «интеллигент» в очках, при барахле и с портфелем, попадал в компанию вагонных попутчиков, невинно коротавших дорожное время в картёжного «подкидного». По известному «сценарию» случайные «соседи» его тут же прислоняли к игре «на интерес» и, спустя короткое время, «доходный» гражданин вылетал из вагона на перрон какой-нибудь промежуточной станции в одних трусах в лучшем случае, а в худшем – вываливался вообще голым где-нибудь посреди перегона.
Благо, дверей в то время в электричках автоматических не было.
Но основной «кормилицей» для блатных была конечно Москва, с её вокзалами, рынками и городским транспортом.
Добыча сливалась в ореховские притоны, «красивая жизнь» которых становилась ярче от присутствия женщин, недостатка в которых здесь никогда не было.
Помимо «торфушек» в Орехово-Зуеве испокон веков основное женское население составляли потомственные ткачихи.
В 19-ом веке силою отеческих законов русских царей и старательской настойчивости российских заводчиков, купцов и фабрикантов империя совершила огромный скачок в своём развитии, который не снился даже Петру Великому.
С развитием железных дорог и речного судоходства в центральных губерниях, опираясь на их густонаселённость, как на дрожжах, стала размножаться многообразная промышленность, в том числе и ткацкая мануфактура. Сырьё для неё легко доставлялось из среднеазиатских владений России.
Хлопок по Каспию, через Астрахань, вверх по Волге прибывал на Нижегородскую ярмарку, а оттуда опять же по Волге, или Оке, или Клязьме уходил в Иваново-Вознесенск, Шую, Павлово-Посад, Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво и другие города.
Как уже я упоминал, данная местность, покрытая лесами и болотами, нормальными пахотными землями не располагала.
Поэтому мужское население утекало на близкие заработки в Москву, и ткацкое производство изначально стало уделом женщин и девушек из окружающих сёл и деревень.
Два подмосковных села Орехово и Зуево фабриками Саввы Морозова были объединены и превратились в ткацкий городок Орехово-Зуево, с замоскворецким укладом жизни, бытом, языком и предприимчивостью.
При царе временного ничего не было; всё строилось на века и добротно, в чём мы убеждаемся и доныне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: