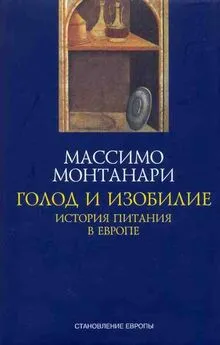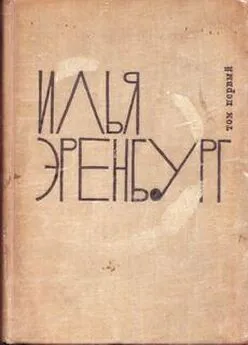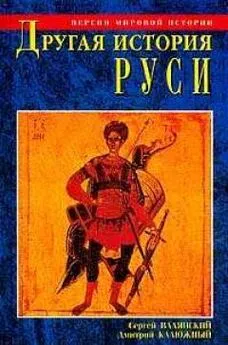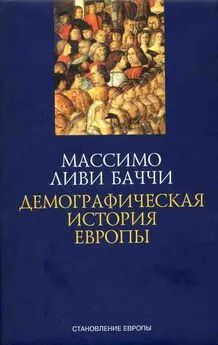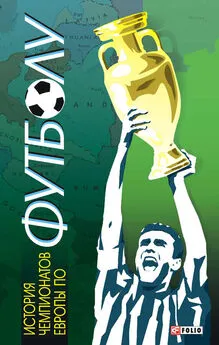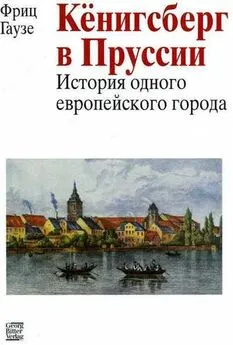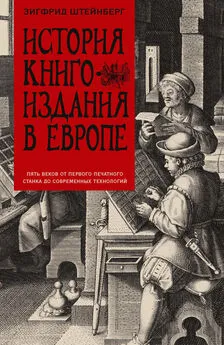Массимо Монтанари - Голод и изобилие. История питания в Европе
- Название:Голод и изобилие. История питания в Европе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Александрия
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-903445-10-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Массимо Монтанари - Голод и изобилие. История питания в Европе краткое содержание
Массимо Монтанари (р. 1949) — историк-медиевист, специалист по истории питания, преподаватель Болонского университета и единственного в своем роде Университета гастрономических наук, в своей книге прослеживает эволюцию традиций питания в Европе с III по XX век. От хлеба и оливкового масла древних римлян и греков, куска мяса на костре варвара до современных консервов и фаст-фуда; от культа еды в мифах и эпосе, от тысячелетнего страха перед голодом к современной боязни переедания… История питания, настаивает М. Монтанари, — такая же составная часть истории цивилизации, как политическая или культурная история. Знакомясь с тем, что и как ели предки современных европейцев, читатель увидит, как в эволюции гастрономии отразился путь, пройденный за семнадцать веков европейским обществом, а также сможет по-новому взглянуть на собственные гастрономические привычки.
Голод и изобилие. История питания в Европе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы уже указали на две социальные сферы (буржуазия/знать, город/двор), в которых на рубеже XIII в. появляются кулинарные книги. В обоих случаях ясно и недвусмысленно указывается, для кого они предназначены: «подай сеньору», «поднеси сеньору», читаем мы в придворных рецептариях, например, Анжуйской династии; тосканские книги, наоборот, предполагают небольшое общество «богатых» сотрапезников (такой эпитет обычно не прилагался к родовитой знати): «XX богатых и благородных господ», «XII богатых весельчаков» и так далее. И все же не они являются прямыми адресатами подобных произведений. Сборники рецептов, очевидно, обращены к профессионалам: поварам на службе у сеньора или «богача» либо содержателям таверн. К ним обращены рекомендации и советы: пирог с угрями «немного остуди, иначе богатые обожгут рты»; равиоли «делай в очень тонком тесте, иначе богатым не понравится». Им советуют не переварить нарезанную кусками миногу, «чтобы куски не развалились», и не слишком сильно ее солить, так как она от природы соленая. Им предоставляется право по своей воле разнообразить вкусы и ингредиенты блюд, в зависимости от того, что предлагает рынок и что требуется в данную минуту. «Относительно вышесказанного, — читаем в одной итальянской книге XIV в., — умелый повар может решать по своему усмотрению, что-то изменять в блюдах или окрашивать их как ему вздумается». А вот немецкая поваренная книга: «По этому рецепту можно приготовить и другие продукты». Даже отсутствие указания на количество ингредиентов, характерное для многих европейских сборников рецептов, по-видимому, связано с тем, что они адресованы профессионалам: повара знают, что приготовление пищи — искусство сугубо творческое и экспериментальное и что установленные «дозы» нужны прежде всего дилетантам и начинающим. И не случайно, что те немногие справочники, в которых такие указания имеются, принадлежат — по крайней мере, в Италии — к «буржуазному» разделу подобной литературы. Может быть, причина в том, что «богатые весельчаки» пристально следили за биржей и предпочитали учитывать расходы. А может быть, в городе кулинарные книги находили более разнообразный и потенциально более широкий круг читателей, выходивший за рамки чисто профессионального, в который входили — читаем в новелле Джованни Серкамби — «такие мастера поваренного искусства, какие с помощью книг и собственного умения изобретают столь лакомые блюда, что их заведения дают большой доход и процветают». К ним следует прибавить еще и любопытствующих, и любящих полакомиться, как священник Меоччо, герой новеллы Джентиле Сермини, который прятал под требником свою любимую кулинарную книгу: «Там полно было рецептов разных поваров, объяснявших, как приготовить то или иное лакомое блюдо, как нужно его варить, и с какими приправами, и в какое время года; и речь в той книге шла о еде, ни о чем другом».
Разумеется, то была кухня не на каждый день, а главное, кухня не для всех: качество ингредиентов (начиная с пряностей) и сложность приготовления отсылают нас, без всякого сомнения, к элитарной гастрономии. Но среди элиты описанная кухня становилась реальностью. «В этот день, — рассказывает Салимбене Пармский о визите короля Людовика IX в монастырь миноритов в Сансе, — мы сначала ели черешни и самый белый хлеб. Потом мы ели молодые бобы, сваренные в молоке, рыбу, раков, паштет из угрей, молочную рисовую кашу с миндалем и корицей, жареных угрей под великолепным соусом, и пироги, и творог, и фрукты по сезону, поданные как подобает и в большом изобилии». Это — строго постный обед, не слишком роскошный; но блюда более или менее такие же, какие мы находим в сборниках рецептов, начиная с «белого яства», «бланманже», блю́да, возможно, арабского происхождения, в состав которого входят только ингредиенты белого цвета (рис, миндальное молоко и т. д.). Европейские поваренные книги предлагают многочисленнейшие его варианты, как скоромные (с куриной грудкой), так и постные (с рыбой или, как в данном случае, только с растительными ингредиентами). Несмотря на то, что каждый раз предлагаются разные ингредиенты (проанализировав 37 рецептов «бланманже», содержащихся в английских, французских, итальянских и каталонских поваренных книгах, Ж.-Л. Фландрен не нашел ни одного повторяющегося), можно все-таки сказать, что в этом случае, как и во многих других, речь идет об «интернациональном» блюде, входящем в то гастрономическое койне , какое европейская культура, похоже, выработала между XIII и XV вв. И то и другое представляется бесспорным: общие черты, повторяющиеся продукты и приправы, обмен между различными территориями и вклад каждого в общеевропейскую кухню, с одной стороны; с другой — местные особенности, региональные или национальные, которые наводят на мысль о ранней дифференциации кухонь разных стран: «разница во вкусах и способах приготовления — обильные свидетельства которой появляются с начала XVI в. в трактатах по диететике, в работах, посвященных еде, и в путевых заметках — возникла, не дожидаясь Возрождения и Реформации» (Фландрен). Сами современники это осознавали, как то показывают названия многих блюд (возможно, случайные или фантастические, но все же знаменательные): «бульон по-английски», «бульон по-немецки», «бланманже по-каталонски»…
Среди характерных блюд «новой» европейской кухни следует, конечно, назвать пироги , мода на которые широко распространилась во всех странах и практически не имеет аналогов в античной традиции. Особенно пироги с начинкой, крайне разнообразные по составу и носящие самые разные названия (pastello, pastero, enpanada, crosta, altocreas и т. д.), имели, по-видимому, необычайный успех: мясо, рыбу, сыр, яйца, зелень… все можно туда положить слоями, или кусочками, или однородной массой в виде паштета, а потом прикрыть корочкой из теста. Такую гастрономию определяет или, по меньшей мере, поощряет доступность печи, а значит, подобная кухня тяготеет к выходу за пределы дома; ее естественная среда — это главным образом город с его сетью пекарен, тех самых печей, в которых, согласно источникам (статутам, новеллам), горожане постоянно готовили себе пищу. Хватало и закусочных, и «поварен», где пироги (и другие блюда) можно было купить готовыми. «Обычно я не приглашаю гостей, — утверждает пизанский ремесленник в новелле Джованни Серкамби, — а если кто и явится ко мне на ужин, то я пошлю к повару за вареной курицей». Но тем самым вырисовывается некая спираль, объединяющая высокую кухню с кухней народной: блюда, предназначенные для знати или для богатой буржуазии, часто проходили через «фильтр» домашних поваров или городских трактирщиков и булочников, которые явно не принадлежали к высоким слоям общества; ежедневно происходил обмен опытом и знаниями, возможно, «при посредстве» поваренных книг, на которых мы останавливались. Одним словом, «кухня — не изобретение господствующих классов, а их потребность , которую удовлетворяет искусство народа» (Дж. Ребора); ничего удивительного в том, что «часть рецептов, предназначенных для знати и богатой буржуазии, сделалась всеобщим достоянием, возможно, в менее дорогостоящем варианте»: например, кладется меньше специй или их заменяют душистыми травами, настоящими «пряностями бедняков», в изобилии растущими в каждом огороде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: