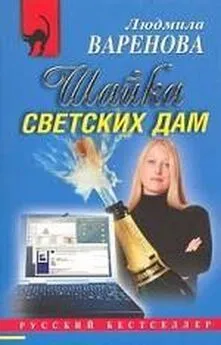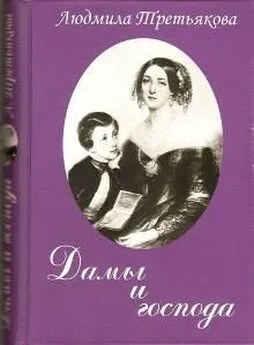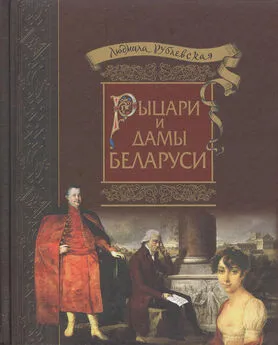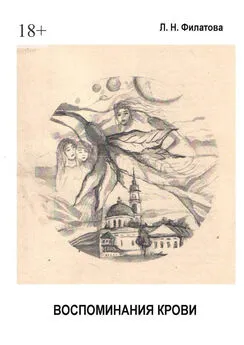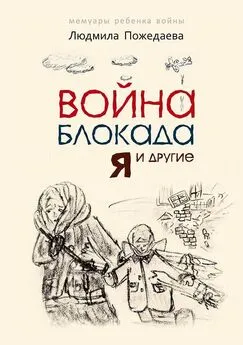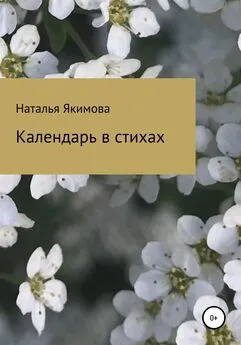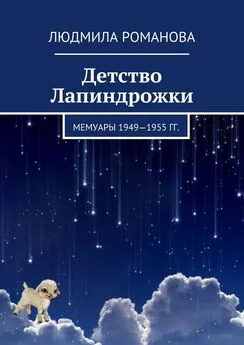Людмила Якимова - Мемуары учёной дамы
- Название:Мемуары учёной дамы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Якимова - Мемуары учёной дамы краткое содержание
Мемуары учёной дамы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вспоминая это время, не могу преодолеть пафоса каких-то первородно-адамистических чувств. Но они не придуманы: так было! Основной контингент научно-исследовательских институтов составляла молодежь, молодые семьи были главным населением городка. По вечерам, когда детвора возвращалась из садиков и школ, ее веселый птичий гомон наполнял околодомное пространство. Куда ни оглянись, всюду они скачут через скакалку, бьют мячиком об стену, играют в классики. Их загорелые спинки и головки в панамках, словно грибы в лукошках, переполняют песочницы. Много чаще, чем сегодня, мелькали среди прохожих фигуры беременных женщин; прогуливающиеся с младенцем в коляске или на руках у папы молодые пары привычно вписывались в картину вечернего или воскресного Академгородка.
Интенсивно внедрялись новые формы обучения и воспитания детей, организации их отдыха и досуга. С течением времени приобрела широкую известность созданная по инициативе М. А. Лаврентьева знаменитая ФМШ, функционировал КЮТ — клуб юных техников, возник клуб «Калейдоскоп», стали привычными специализированные школы…
На всю страну прогремели тогда такие формы организации общественной самодеятельности, как клуб «Под интегралом», общество поэтов «Гренада», производственное объединение «Факел». Среди ученых городка было много не просто любителей книги, но настоящих библиофилов и библиофагов, были и собиратели самиздата.
На работу предпочитали ездить на велосипедах: вдоль Морского проспекта была проложена велосипедная трасса. Около домов, рядом с детскими площадками, привлекавшими разнообразием игровых забав, располагались турники, столы для пинг-понга, волейбольные площадки. По утрам многие бегали трусцой. Квартирная жизнь выплескивалась на улицу, соседство приобретало вид коммунального общежития, но уже в той добровольно-непринужденной форме, которой не знал коммунальный быт пореволюционного времени.
Спортивное рвение не остывало и зимой: на лыжи вставали и стар и млад, и студенты, и академики; ходили целыми семьями, охотно участвовали в кроссах. Спортивным центром зимой становилась лыжная база им. Алика Тульского: лыжная трасса там была многокилометровой, хорошо освещенной и даже контролируемой спасателями. Академгородок был окружен лесной глушью, затеряться в которой зимой, отступив от проложенной лыжни, было опасно. Не уходит из моей памяти случай, когда, поддавшись уговорам внука Никиты, я на свой страх и риск отпустила его покататься «всего на полчасика-часик»… Переоценив свои мальчишечьи силенки, он ушел так далеко, что на обратном пути, сломленный усталостью, свалился в снег, и именно спасатели подобрали его и на своем снегоходе привезли к себе, напоили горячим чаем. Мобильников тогда не было. Прождав «полчасика-часик», я подняла тревогу. Дед, спешно сорвавшись с работы, со своими сотрудниками из Института экономики прибыл на лыжную базу, где и обнаружил отогревающегося чайком внука...
В Академгородок я приехала, подчиняясь больше обстоятельствам, сложившимся в жизни мужа, но быть просто женой не значилось в моих планах, не значилось по определению, по всей логике пройденного пути. В преподавательской работе виделось уже не средство заработка, а судьба, предназначение. Поэтому озабоченность своим профессиональным будущим не покидала меня.
Более или менее разобравшись с квартирными делами и определением детей в школу и детсад, я занялась своим трудоустройством. В университете места мне не нашлось, оставался пединститут, туда однажды я и отправилась. Кафедрой литературы заведовала тогда Анна Александровна Богданова. Мы видели друг друга и раньше, встречались на совещании заведующих кафедрами литературы в Москве, но лично знакомы не были.
Обстановка в институте была какая-то унылая, казенная, веяло запустением: студенты еще не вернулись с картошки; разговор как-то не задался.
— Вакансия есть… Но как будете работать, не представляю…
— Почему?
— Но вы же заведовали кафедрой… Неудобно… Будете претендовать на мое место…
Разуверять ее мне не захотелось. На обратной дороге автобус наполнился до отказа, посадка происходила бурно, с толкотней и криками. Домой я вернулась усталая, раздраженная, расстроенная пятном на габардиновом плаще. И это ждет меня на протяжении многих лет?
Привыкшая в Горно-Алтайске чуть ли не к пятиминутной близости места работы от дома и помнившая трамвайные тяготы студенческо-аспирантских лет, я хорошо представляла, сколько времени при таком образе жизни уйдет в пустоту. Придется поступиться манерой одеваться, изменить внешний облик. Туфли на шпильках, шляпы с полями, тонкие перчатки и пр. с автобусом несовместимы, на долгую дорогу и климатические капризы не рассчитаны.
Скрыть отчаяние от Евгения Дмитриевича было трудно, все он понял и без слов. В пединститут я больше не поехала. Обоим стало ясно, что следует попытаться найти работу, более или менее близкую к моему профессиональному профилю, здесь, в Академгородке. На другой день состоялся его разговор обо мне с директором Института экономики Г. А. Пруденским, через день я была приглашена на собеседование и в результате этих недолгих процедур принята в штат отдела научной информации на должность младшего научного сотрудника.
Встретили меня здесь настороженно: в отделе, как я потом увидела, и своей людской пестроты хватало, а тут опять непонятное явление. «Кто она? Филолог?! А… жена Малинина…» Словом, участи «жены» при устройстве на работу в Академгородке я не миновала и, как «просто жена», а не самоценный работник, столкнулась с отношением, где снисходительность граничит с унизительностью.
Отделом заведовал Н., образ которого в памяти предстает смутно. Мое появление здесь совпало с возвращением его жены из роддома. Сотрудники скинулись и приобрели в подарок какую-то погремушку, которую следовало почему-то передать по назначению незамедлительно. Я слышала конец телефонного разговора: «Да, ладно-ладно, сейчас и пошлю кого-нибудь из лаборантов». На улице стоял трескучий мороз, все сотрудники вдруг оказались заняты неотложным делом, и взор Н. упал на меня. «Вот», — сказал он и, вручив мне игрушку, назвал адрес. Это был конец Морского проспекта.
Я не торопилась проявлять рвение и демонстрировать свою неукоснительную исполнительность по такому поводу. На пороге квартиры меня встретили гневным окриком: «Почему так долго?» Пришлось объяснить, что, мол, холодно, зашла в кафе, выпила кофе. «Но вы же на работе!» — возмущалась мадам Н.
Поняв, что как курьер я доверия не оправдываю, Н. передал меня в социологический сектор Петра Ивановича Попова. Если Сталин, выразив свое недоверие к статистике, обозвал ее «гнилой наукой», то моя социология была скорее «веселой».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: