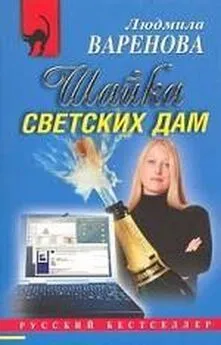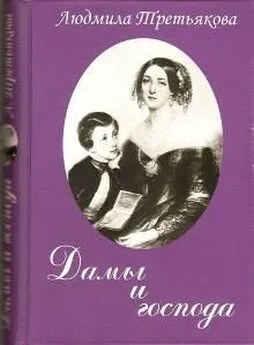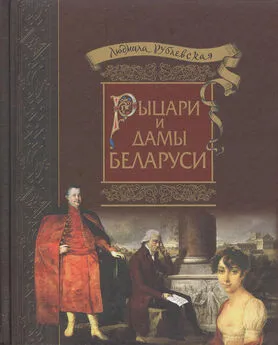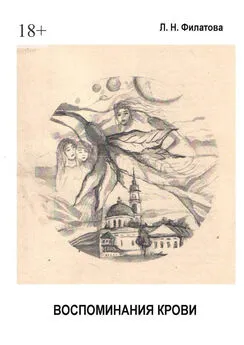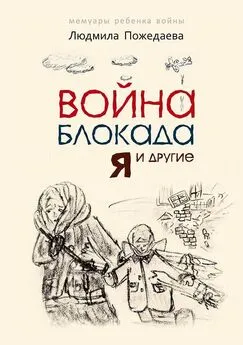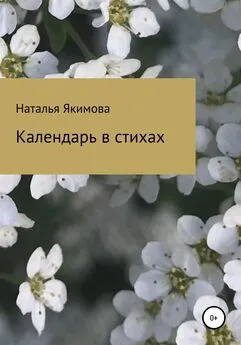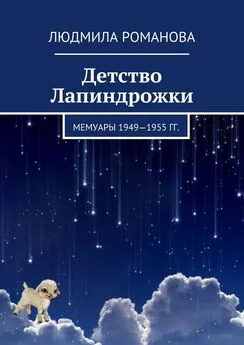Людмила Якимова - Мемуары учёной дамы
- Название:Мемуары учёной дамы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Якимова - Мемуары учёной дамы краткое содержание
Мемуары учёной дамы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 60-е годы все мы были молоды и, фигурально выражаясь, «узок был круг» энтузиастов нового литературоведческого проекта, но по примеру историков мы тоже мыслили наш труд как результат консолидации филологических сил всей Сибири, как итог интеграционного участия не только литературоведов, но и критиков, фольклористов, журналистов, писателей, искусствоведов…
Именно с целью научно-производственной рекогносцировки, выявления внутренних ресурсов сибирских филологов и была командирована я в дальние пределы Сибири. Первым на пути был Иркутск, затем Хабаровск, а домой я возвращалась из Владивостока. В каждом из этих городов был педагогический институт и университет со своими кафедрами литературы; мне предстояло познакомиться с каждым коллективом, планами их научно-исследовательской работы, уяснив то место, которое занимает в них сибирская проблематика, и введя в суть нашего проекта.
Результаты кафедральных встреч, равно как и впечатления от них, располагались в широкой амплитуде от полной готовности включиться в общее дело до открытого недоверия к нему, как к маниловскому проекту. В этом смысле порадовал профессиональным потенциалом и открытым желанием сотрудничать Иркутск, но в той же степени разочаровал своей инертностью Хабаровск, где, кстати, произошла встреча с Ниной Ивановной Хоменко, давней коллегой по горьковской аспирантуре. Трудно, но не бесплодно прошла встреча с университетскими филологами Владивостока. Заведующая кафедрой литературы Н. И. Великая исходила из собственного понимания географических границ сибирской литературы: «Какая же сибирская литература может быть на Дальнем Востоке? У дальневосточной литературы своя история, мы сами ее и напишем…» Чуть позднее эта запальчивость исчезла.
Без какого-либо сопротивления соглашаясь на длительную и во всех отношениях трудную и ответственную поездку, я действительно не упускала из виду возможность утолить свою страсть к путешествиям. Воистину, если б не эти командировки по делам двухтомника, не напиталась бы я неизбывной силой впечатлений от красоты сибирских городов, не ощутила бы их природного приволья, не убедилась бы в истинности ломоносовского утверждения, что российское богатство прирастать будет Сибирью. Тогда из всех городов самое большое впечатление произвел на меня Хабаровск: такой неохватной глазом широты уличных пространств, казалось, я больше не увижу нигде и никогда.
...Утомленная дорожными перемещениями из города в город, множеством встреч и разнообразием впечатлений, я с нетерпением ждала завершения намеченных дел и рвалась домой. В аэропорту Владивостока ко мне подошел молодой, высокий, стройный мужчина в форме морского офицера и неожиданно заговорил: «Здравствуйте. Я вас узнал. В октябре вы плавали на “Урицком”». Рядом с ним стояли два больших, сверкающих новой кожей чемодана. Оказывается, он служил на теплоходе, сейчас едет в отпуск домой к родителям, на Украину — с пересадкой в аэропорту Новосибирска. Но багажа оказалось больше, чем допускают нормы перевозки в самолете, и он просит, видя легкость моего дорожного саквояжа, оказать ему дружескую услугу — оформить один из чемоданов на мой билет. Я не собиралась свою ручную кладь сдавать в багаж, но и отказать приятному человеку видимого резона не было. В перелете от Владивостока до Новосибирска у меня оказался галантный и интересный попутчик, существенно пополнивший мои впечатления. Только в новосибирском аэропорту стала доходить я до понимания необдуманности своего дорожного поведения. Встречавший меня Евгений Дмитриевич, подхватив мой саквояж, повлек было меня к машине, но я остановила его: «Придется подождать». И познакомила с попутчиком.
— Очень приятно, — сказал тот.
— Взаимно, — глядя в сторону, ответил муж. — Я подожду тебя в машине, — бросил он и, не оглядываясь, ушел, оставив меня дожидаться прибытия чужого чемодана.
Ждать пришлось долго. Когда я расположилась наконец рядом с мужем, он сказал:
— По всему видно, Владивосток тебе понравился. Я только не понял: шпоры уже не в моде?
— При чем тут шпоры?
— А при том, дорогая, что клюешь ты на всякую театральную мишуру, а призадуматься над тем, что провезла в помпезном чемодане этого красавчика с кортиком, не догадалась.
С нескрываемым удовольствием и не без иронического подтекста муж рассказал эту историю нашему другу Виктору Александровичу Демидову, и с его легкой подачи моего самолетного попутчика с тех пор в нашем кругу обозначали кодовым именем «контрабандиста», а я, соответственно, стала его пособницей. Впрочем, в авантюрные истории я не раз попадала и позднее…
Вернувшись, я спешила поделиться результатами своей командировки с коллегами, а они рассказали мне о событиях институтской жизни. Оказывается, слух о дерзких намерениях филологов Академгородка написать параллельную историю русской литературы Сибири дошел до столицы, и новый, 1968 год ознаменовался запоминающимся событием: в Институте истории, филологии и философии началась работа выездной сессии отделения гуманитарных наук АН СССР. К нам пожаловал сам Михаил Борисович Храпченко! О том, что «к нам едет ревизор», мы заблаговременно узнали из письма В. А. Аврорина, не скрывшего скептического настроя «начальства» и советовавшего укрепить по возможности линию нашей обороны заранее. Так мы и поступили. Из Томска поддержать нас приехал Н. Ф. Бабушкин, пригласили на встречу с академическим начальством писателя А. Л. Коптелова, своим участием в работе сессии нам активно помог А. П. Окладников.
Создание обобщающего труда по истории русской литературы Сибири никакой крамолы по отношению к всесоюзной и общероссийской филологии, разумеется, не несло, наоборот, отвечало насущным нуждам филологической науки, ибо выходившие один за другим академические труды по истории национальной литературы России страдали одним общим недостатком — неполнотой фактического материала. Огромная масса имен и событий попросту пропускалась, не учитывалась, подвергалась опасности навсегда кануть во всепоглощающую Лету.
Впрочем, идея создания обобщающего труда о сибирской литературе носилась в воздухе, и первыми высказали ее в форме литературоведческого документа красноярцы, издав в 1962 году проспект «Сибирь и Дальний Восток в художественной литературе. История литературной жизни Сибири и Дальнего Востока». Неблагородное это дело обвинять сегодня первую заявку на создание труда по сибирской литературе в методологическом эклектизме, но он явно проявился в смешении понятий «сибирская тема в русской литературе» и «сибирская литература», а также в намерении синхронным образом охватить картину развития русской и национальных литератур Сибири. И это при том, что истории национальных литератур Сибири — Якутии, Бурятии, Тувы, Хакасии, Горного Алтая — были уже созданы, история же русской литературы огромного края представала как нетронутая целина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: