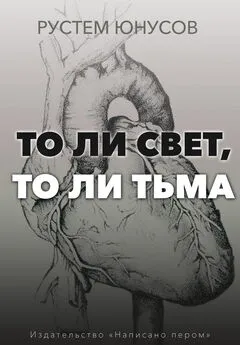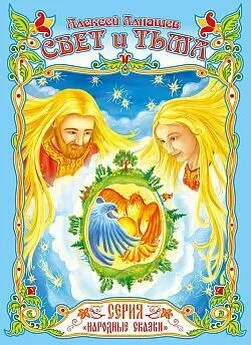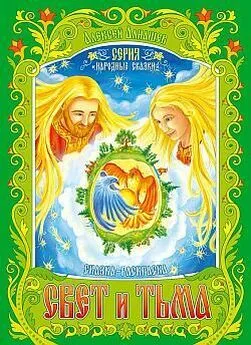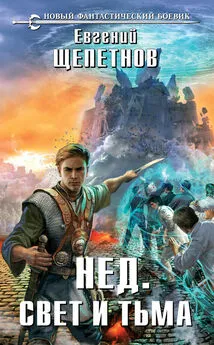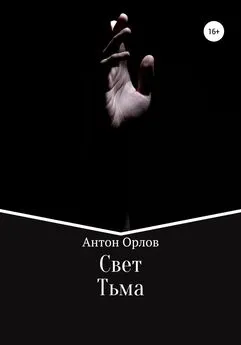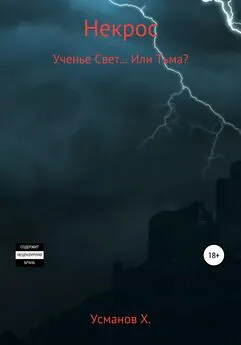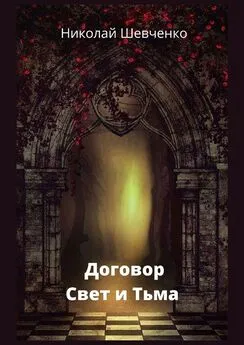Рустем Юнусов - То ли свет, то ли тьма
- Название:То ли свет, то ли тьма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Написано пером»3bee7bab-2fae-102d-93f9-060d30c95e7d
- Год:2015
- Город:СПб
- ISBN:978-5-00071-349-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рустем Юнусов - То ли свет, то ли тьма краткое содержание
Книга Р. Юнусова о студентах и преподавателях, о невидимой простым глазом внутренней жизни медицинского вуза – бесстрашная в своей откровенности и доверительности. Автор, как никто другой, впускает читателя в медицинский мир, вступает с ним в диалог не только посредством художественных образов, а прямо и доверительно – глаза в глаза. Отсюда сила повествования и убедительность высказывания, наивная и святая уверенность, что все это должно быть выговорено и услышано. Выговорено так, как говорится.
Юнусову не надо ничего выдумывать, сочинять – жизнь всегда под рукой на грани боли – ибо он сам вышел из системы, «вынес сор из избы», и система ему это не простит.
В повествовании за частными случаями проступают общие проблемы и беды нашей медицины. К сожалению, она больна, как и общество в целом.
То ли свет, то ли тьма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Какого органа?
– Какого-нибудь, например печени.
Доктор пожал плечами, посчитав, что этот вопрос задан наобум и не достоин ответа.
– У вас вообще нет никакой диагностической версии? – спросил я хирурга.
– В последнее время появилась. Лично я думаю, что у больной ложная киста поджелудочной железы. В онкологии не выявили, а мы при повторной томографии, проведенной в нашей клинике, около поджелудочной железы обнаружили тонкостенное образование. Буквально сегодня-завтра мы вновь проведем лапароскопию.
– Уже замучили, – подала слабый голос больная, но доктор оставил ее возглас без внимания.
– Зачем лапароскопию? – спросил коренастый, любознательный, умный студент.
– Чтобы эвакуировать жидкость из брюшной полости и определить в ней содержание ферментов поджелудочной железы. При ложной кисте их содержание будет зашкаливать. Кроме того, при лапароскопии в брюшную полость мы накачаем воздух, введем лапароскоп и осмотрим внутренние органы. Возможно, увидим что-нибудь интересное, – пояснил доктор.
– Всю клинику мы все равно наличием кисты поджелудочной железы не объясним, – заметил я.
– Но все же зацепка.
– Я все-таки не поняла, почему в брюшной полости скапливается жидкость! – сказала одна из студенток с той непосредственностью, которая бывает в детстве и поджала губки.
Доктор с оживлением на лице посмотрел на нее и нравоучительно произнес:
– Кабы знать бы. В этом и состоит загадка.
– Загадка, которая имеет непростую отгадку, – поддерживая доктора, заметил я.
36
Доктор удалился, оставив нас наедине с больной.
– Чтобы раскрутить сложную больную, нужно всегда не с чьих-то слов, чтобы не попасть в глупую ситуацию, а самому заново собрать анамнез. Хирурги смотрят на больную со своей колокольни, они важные для нас детали в истории развития заболевания могли опустить, – тихо говорю я студентам, сажусь на стул у кровати и прошу больную подробно рассказать, с чего началось ее заболевание и как в дальнейшем оно протекало.
Больная доверчиво посмотрела на нас, произнесла тихим голосом всего лишь несколько слов, но тут, неожиданно ее голову потянуло к плечу как вывернутую, открытые глаза закатились, и стали глядеть белками в потолок, губы задергались, ноги судорожно свело, выворачивая колени.
Через две-три минуты судороги сами собой прошли, но больная впала в оцепенение, стала заторможенной, словно ее, как психически буйную больную, накачали снотворными препаратами и нейролептиками.
– Устала, – чуть слышно прошептала она, глядя на нас потухшим взглядом, и закрыла глаза.
Нам заново не удалось у нее собрать анамнез.
Студенты смотрели на больную растерянно и с недоумением. Одно дело ставить диагнозы тематическим несложным больным по учебнику – совсем другое дело, когда перед тобою не студенческий случай.
– Чтобы не рецидивировал судорожный синдром, попросим доктора назначить седуксен. Дальнейшее обсуждение истории болезни продолжим в учебной комнате, – говорю я уверенно студентам, словно мне относительно диагноза больной все понятно, и мы выходим из палаты.
Студенты идут по коридору не торопясь. Неуверенность у них не только в суждениях о клинических проявлениях болезни, но и в походке. Никто из них вперед меня не забегает. Мне же сейчас, при обсуждении больной, нужно будет если не выставить диагноз, то представить на суд студентов убедительную диагностическую версию.
Я думаю о том, что у больной два синдрома: абдоминальный, который клинически проявляется накоплением воспалительной жидкости в брюшной полости, и церебральный – проявлением его явились возникшие на наших глазах судороги. Такая симптоматика возможна при васкулите. Васкулиты – это большая группа заболеваний, в основе которых лежит аутоиммунное поражение сосудов. В данном случае речь идет о поражении сосудов головного мозга и органов брюшной полости, но это еще нужно доказать.
Студенты рассаживаются, с любопытством поглядывая на меня, – ожидают, что я им сейчас скажу. Но, если я им сразу же выскажу свои мысли, это будет не педагогично. Пускай сами голову поломают.
Поначалу я кладу перед собой историю болезни и занимаюсь прозой жизни: в течение длительного времени зачитываю результаты всех, проведенных в клинике лабораторных и инструментальных обследований. Студенты слушают внимательно. Если бы передо мною была обычная группа, то студенты переговаривались бы между собой, да и я не демонстрировал бы им этот клинический случай. Не в коня корм. Слушать же мнение смышленых студентов о больной порой бывает очень интересно. Редко, но иной студент, мысля не шаблонно, может подойти к диагнозу совсем с иной стороны, нежели опытный клиницист, или же натолкнуть его на правильную мысль.
– Нельзя сказать, что больной не оказывается внимание, проведено много обследований – выдав всю информацию, говорю я. – У кого по данному клиническому случаю имеются вопросы?
Несмотря на то что все было озвучено, следуют вопросы: что на ЭКГ, какой анализ крови, мочи – это оттого, что студенты еще не способны схватывать информацию на лету, а уж о профессиональной памяти я и не говорю. Если голова опытного квалифицированного доктора как компьютер – он месяцами держит в памяти в деталях информацию о больном, то студент за редким исключением забывает о ней на другой день.
– Непонятно, почему у больной судороги, почему она заторможена? – произносит одна из студенток, словно рассуждая сама с собой.
– Да, судороги, – говорю я, – в своих рассуждениях и догадках вы на правильном пути. Напрягите мозжечок, сопоставьте факты.
Студенты, рассуждая вслух, сопоставляют симптомы, но ничего, что бы шло в актив диагноза, не находят. Они не высказывают даже диагностические версии – боятся показать свою некомпетентность. Подобных больных им еще никогда не приходилось видеть.
– Еще раз все обмозгуйте в течение десяти минут, а затем продолжим обсуждение, – говорю я и покидаю группу; при этом знаю: студенты в диагностическом плане ничего вразумительного не родят – не тот случай. У них еще нет клинического мышления, которое вырабатывается, даже если доктор способный малый, с годами. «Им по одежке нужно протягивать ножки», – думаю я, глядя на них. Над этой больной уже много докторов, и в онкодиспансере, где имеются консультанты-терапевты, и в РКБ ломали головы, но так и не выставили диагноз.
Я покидаю группу еще для того, чтобы студенты на этот раз сообща поломали голову без оглядки на меня, как в игре «Что, где, когда?». При этом, что также пойдет им на пользу, у каждого есть возможности оценить критически свои умственные способности.
– Мы не знаем, что у больной. Нам таких сложных больных обычно не показывают, – отвечают студенты через десять минут.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: